|
Nomen est omen (1)
ОТ МИФА К РЕАЛЬНОСТИ
Как-то в молодости, листая в библиотеке старые, еще дореволюционные
номера "Морского сборника" на одной из карт мое внимание
привлекли необычные названия - "Земля Императора Николая
II" и "Остров Цесаревича Алексея". По карте, сравнивая координаты,
я нашел этот знакомый со школы архипелаг - Северная Земля.
Стал искать документы, чтобы узнать, как и когда там появились
августейшие имена. И вот в "Правительственном вестнике"
№ 212 от 4 октября 1916 г. (здесь и далее все даты, касающиеся
той поры, приведены по старому стилю) обнаружил обращение
правительства Российской империи к правительствам союзных
и дружественных стран от 20 сентября того же года. В нем,
в частности, говорилось:
"Значительное число открытий и географических исследований
в области полярных стран, расположенных к северу от азиатского
побережья Российской Империи, произведенное в течение столетий
усилиями русских мореплавателей и купцов, недавно пополнилось
новейшими успехами, коими закончилась деятельность флигель-адъютанта
Его Императорского Величества, капитана 2 ранга Вилькицкого,
начальника Гидрографической экспедиции, которой в 1913 -1914
гг. было поручено исследование Северного Ледовитого океана.
 Б.Вилькицкий
Б.Вилькицкий
Этот офицер Императорского Российского флота произвел в
1913 г. опись нескольких обширных местностей, расположенных
вдоль северного побережья Сибири, и на 75° 45' сев. широты
открыл остров, позднее названный островом Генерала Вилькицкого;
засим, поднявшись к северу, открыл обширные земли, распространяющиеся
к северу от Таймырского полуострова, коим были даны наименования
Земли Императора Николая II, острова Цесаревича Алексея
и острова Старокадомского.
В течение 1914 г. капитан Вилькицкий, сделав новые и важные
исследования, открыл другой новый остров близ острова Беннета.
Название "остров Новопашенного" было дано этому острову.
Императорское Российское Правительство имеет честь нотифицировать
настоящим правительствам союзных и дружественных держав
включение этих земель в территорию Российской Империи..."
К этому посланию прилагалась карта на французском языке
с обозначением новооткрытых земель. При этом трехлетняя
задержка официальной дипломатической акции объяснялась,
надо полагать, не только большой войной. Из европейских
и американских газет мир давно уже знал об открытиях экспедиции
Вилькицкого, однако прежде чем официально заявить о крупнейшем
географическом открытии XX в., наверное, требовалось удостовериться,
что речь не идет об очередной мифической "Земле Санникова".
А потому участникам экспедиции приходилось неоднократно
выслушивать вопросы скептиков о том, имеются ли доказательства
о реальном существовании открытой ими земли, да к тому же
соизмеримой по размерам с Данией, и не приняли ли они за
сушу скопление льдов? Ведь и через много лет сам Борис Андреевич
Вилькицкий писал, что даже "в 1928 году итальянский генерал
Нобиле, сделав свой первый за этот год полярный рейд на
дирижабле по направлению к Земле Николая II, заявил, что
этой земли не существует" (2).
А потому ниже Вилькицкий благодарит Амундсена, который высаживался
на землю Николая II со шхуны "Мод", и тем "успел удостоверить
несерьезность этого заявления и таким образом очистить репутацию
русских исследователей."
Проблемами Северного Морского пути нас заставила всерьез
заняться русско-японская война 1904 -1905 гг. Дипломатические
и иные сложности, связанные с посылкой через три океана
эскадры адмирала Рожественского, а затем и цусимская трагедия,
вынудили власти задуматься о том, что существует - таки
много более короткий и целиком проходящий по собственным
водам путь к восточным владениям империи, Но, увы, он был
весьма слабо изучен. Поэтому после войны Морское министерство
решило построить два транспорта ледокольного типа специально
для исследования северных морей. Весной 1909 г. со стапелей
Невского судостроительного завода сошли ледоколы "Таймыр"
и "Вайгач". 1200 л.с. в машине и 1500 т водоизмещения позволяли
ледоколам продавливать льды до 2 - 3 футов толщиной, а в
случае сжатия более тяжелыми льдами их обводы обеспечивали
как бы выдавливание, поднятие вверх округлых корпусов этих
судов без серьезных повреждений. 500-тонный запас угля обеспечивал
преодоление 12 тыс. миль при скорости 8 уз без захода в
порты. На случай же вынужденной зимовки каждый корабль брал
запас провизии на 15 месяцев, а также теплые вещи, палатки,
сани и пр. Экипаж каждого из ледоколов включал пять флотских
офицеров, одного инженер-механика, врача, тридцать девять
низших чинов и вольнонаемного кока.
В октябре 1909 г. "Таймыр" и "Вайгач" вышли из Кронштадта
и, пройдя через Суэцкий канал и Индийский океан, 3 июля
1910 г. благополучно прибыли во Владивосток. Через месяц
была учреждена Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого
океана (ГЭСЛО), и указанные ледоколы стали ее материальной
базой.
... 26 июня 1913 г. в третий раз Владивосток проводил ГЭСЛО,
настойчиво пытавшуюся пройти Северным Морским путем в Европу.
Заметим, что совершить такой переход, правда, в обратном
направлении - из Европы в Азию, удалось лишь трижды: шведу
Норденшельду в 1878 г., норвежцу Ф.Нансену в 1893 г. и русскому
Э.Толлю в 1901 г. Таким образом, "Таймыр" и "Вайгач" делали
четвертую попытку. И вот в 9-м часу утра после молебна суда
тронулись в путь. Было тихо и пасмурно, накрапывал дождь,
сгущался туман. На кораблях то и дело ревели сирены, но
все утешились надеждой, что уж на сей раз с полпути во Владивосток
они не вернутся.
Помимо главной задачи - пройти северным путем в Европу,
экспедиции, возглавляемой генерал-майором И.С.Сергеевым,
предстояло выполнить обширную программу исследований. Третий
ее пункт предписывал продолжить морские описи побережья
от устья Лены до Таймырского полуострова. Предусматривалось
также снять гидрографический разрез по меридиану нынешнего
мыса Челюскин к северу, насколько это будет возможно.
11 июля на пути к Берингову проливу с Сергеевым случился
инсульт. Пришлось зайти в Ново-Мариинск, в устье Анадыря,
где только что начала работать станция беспроволочного телеграфа.
Через Петропавловск и Владивосток связались с Петербургом
и доложили о случившемся. 20 июля пришло телеграфное приказание
Морского министра о принятии начальствования над экспедицией
командиром "Таймыра" капитаном 2 ранга Вилькицким.
Борису Андреевичу в ту пору было 28 лет. Он родился в 1885
г. в Пулкове. Здесь, в Николаевской обсерватории, в те годы
практические занятия со слушателями Академии Генерального
штаба вел его отец, тогда лейтенант Андрей Ипполитович Вилькицкий,
в будущем известный полярный исследователь, кавалер многих,
в том числе иностранных, орденов, генерал-лейтенант и начальник
Главного гидрографического управления. Сын, как это водилось
в среде русских моряков, пошел по стопам отца. Он закончил
Морской корпус и Николаевскую академию, получил под Порт-Артуром
от японцев пулю в грудь навылет, а от царя - темляк "с клюквой".
(Так в шутку, офицеры называли весьма престижную награду
- орден СВ.АННЫ 4-й степени на кортик с надписью "За храбрость".)
После японского плена Борис Андреевич плавал на разных кораблях
чуть не по всем морям и океанам, но очень хотел попасть
а Арктику. Однако во избежание разговоров о протекции, отец-генерал
не пускал сына в ГЭСЛО. Лишь после его смерти сыну удалось
осуществить свое желание и стать командиром "Таймыра". А
теперь волею судеб он принял под свое начало экспедицию,
готовившуюся в свое время еще заботами и энергией родителя.
Больного Сергеева с попутным транспортом отправили в Петропавловск,
а ледоколы двинулись дальше. У мыса Дежнева сделали остановку,
чтобы выполнить один из пунктов программы - выкрасить крест,
установленный генерал-губернатором Приамурского края Унтербергером
в 1910 г. в память казака Дежнева, который первым в 1848
г. обогнул на шлюпе восточную оконечность Азии. Кстати,
до 1879 г. это место называлось Восточным мысом, пока швед
Норденшельд не дал ему нынешнее имя.
Затем, чтобы охватить исследованиями возможно более широкую
полосу, ледоколы разошлись, условившись о точке и времени
рандеву. "Вайгач" взял курс к острову Врангеля, а "Таймыр"
пошел вдоль берега. Не в пример предыдущим рейсам, погода
стояла великолепная. Термометр на солнце показывал +21°
С. Встречавшийся изредка лед быстро таял и ледоколы успешно
шли за запад. Уверенность, что в этот раз они пройдут в
Европу, крепла все больше.
7 августа у Новосибирских островов заметили неизвестный
остров. Позже его назовут именем умершего 11 марта 1913
г. генерала Вилькицкого. Остров оказался совершенно голой
скалой 1,5 мили в поперечнике. Возможно, именно его видели
с "Зари" участники экспедиции барона Толля, когда пытались
подойти к о. Беннета. Установив на вершине острова Русский
национальный флаг (тогда моряки называли его "бесик" - забытая
теперь аббревиатура слов "белый - синий -красный") и, убив
двух медведей, экспедиция тоже направилась к о. Беннета,
но и в этот раз льды не позволили приблизиться к берегу...
Продолжая путь, "Таймыр" пошел туда, где на карте пунктиром
был обозначен большой остров и где должна была располагаться
замеченная с острова Котельный купцом Санниковым в 1810
г. неведомая земля. Загадочную землю с того же Котельного
видел и Эдуард Васильевич Толль в 1885 г. Он даже пеленговал
ее "столовые горы". Но больше никто и никогда не видел Земли
Санникова. Ничего не увидели и с "Таймыра".
***
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Таймырский п-ов открылся 10 августа. Сюда на очередное
рандеву сошлись оба ледокола. Оказалось, что восточное побережье
полуострова значилось на карте не только весьма схематично,
но и с ошибкой в несколько градусов по долготе. Ведь экспедиция
пользовалась картами, составленными еще во времена Анны
Иоанновны лейтенантами Пронищевым и Лаптевым, у которых
не было ни хронометров, ни радио. Все пространство к северу
от Таймыра, на картах было закрашено голубой краской, и
лишь у самого полюса оставалось белое пятно.
"Таймыр" и "Вайгач", продолжая вести описи и промеры, то
расходились, то встречались. Поочередно садились на мели,
стаскивали друг друга, ломали лопасти винтов. На пятый день
работ на траверзе мыса Челюскин были встречены плотные льды,
и вскоре ледоколы уткнулись в сплошное ледяное поле, толщина
льда в котором достигала 4 футов. После тщетных попыток
отыскать полынью, 19 августа решили идти на норд, чтобы
обойти поле. Тут-то и начались главные неожиданности.
В третьем часу дня 20 августа на горизонте показалась узкая
полоска неизвестной земли. Оказалось, что это довольно большой
остров - около 15 миль длиной и миль 5 - 6 шириной. Шел
год 300-летия Дома Романовых, и потому открытый остров был
назван именем Цесаревича Алексея, наследника престола. Описав
южное и восточное побережье острова, двинулись дальше на
север. Шли через битый лед, среди которого стали попадаться
айсберги. Гадали - откуда бы им взяться? Стемнело. Ночи
еще были короткими, но уже не такими светлыми. К тому же
в ту ночь небо было плотно закрыто облаками. Когда же начало
светать, в пятом часу утра, на горизонте впереди по курсу
вдруг открылись контуры высокого гористого берега. Широкая
темная полоса земли в одну сторону тянулась на юго-запад,
а в другую, далеко уходила на северо-запад. Ледяное поле
вплотную примыкало к берегу.
Однако как ни велика была радость первооткрывателей, сам
факт открытия и весьма усложнившаяся ледовая обстановка
не оставляли надежды выйти к европейским берегам в текущем
году. Поэтому решили, насколько позволят льды и остаток
навигационного времени, заняться обследованием земли, названной
именем Императора Николая II.
Утром 22 августа экспедиция приблизилась к берегу, корабли
стали на ледяной якорь. Когда в просвет между тучами показалось
солнце, боясь не упустить редкую возможность, высадились
на берег. Установили астрономический инструмент и командир
"Вайгача" капитан 2 ранга П.А. Новопашенный определил координаты:
80° 04' северной широты и 97° 12' восточной долготы. Вкопали
в этой точке столб, а рядом между камней укрепили бамбуковый
флагшток. В 18.00 всех свободных от вахты построили возле
флагштока и на кораблях. Был зачитан приказ начальника экспедиции
об открытии новых земель и присоединении их к владениям
Его Императорского Величества. Под дружное "ура" на флагштоке
забился на ветру флаг России. Нагрузившись образцами горных
пород, вернулись на корабли. Команду ожидал праздничный
ужин, и желающим выдали по чарке. (В обычные дни в полярной
экспедиции спиртное не полагалось.)
Оставив позади 81-ю параллель и продолжая путь, описали
400 км берега, пока не увидели крайний северный мыс острова,
но сплошной лед заставил корабли повернуть назад. Вечером
24 августа подошли к мысу Челюскин. Дувший все время северный
ветер не разломал льды, а лишь нагнал новые. Пока моряки
занимались своими делами, врач "Таймыра" надворный советник
Л.М. Старокадомский отправился осматривать о. Цесаревича
Алексея. Верст через 10 он вышел на северный берег. Вдали
виднелись горы Земли Императора, а перед нею был еще один
остров. Он и получил имя своего первооткрывателя.
Увы, заметить где-либо на небе темно-свинцовую полосу как
отблеск чистой воды не удалось. Потерпели неудачу и попытки
пробить во льду проход. Сделали канал миль в 5, на что истратили
уйму угля, после чего пришлось отказаться от этой затеи.
Ждать же улучшения ледовой обстановки было рискованно, так
как надвигалась полярная зима. С тяжелым чувством 31 августа
приняли решение о возвращении.
Снова прошли сквозь район таинственной Земли Санникова
и вновь ничего не заметили. 5 сентября показались угрюмые
берега о. Беннета. На сей раз удалось подойти к нему и укрыться
от ветра за утесом Баронессы Толль. На остров отправилась
группа моряков, чтобы найти то, что могло остаться от последней
экспедиции барона Толля, которая была снаряжена в 1900 г.
на шхуне "Заря" специально для исследования Земли Санникова.
Перезимовав у западного побережья Таймыра, полярники в следующем
году безуспешно искали загадочную землю и столь же безуспешно
пыталась подойти к острову Беннета. Пришлось стать на новую
зимовку у Котельного. Весной 1902 г. барон с тремя спутниками
решил пройти от места, где вмерзла "Заря", через льды и
торосы к острову Беннета, а оттуда дальше - к легендарной
земле. Предполагалось, что к осени, когда подтают льды,
"Заря" подойдет и снимет их с острова. Но и осенью пробиться
к начальнику экспедиции "Заря" не смогла.
Тогда в следующую навигацию на помощь товарищам на вельботе
с несколькими матросами отправился старший офицер "Зари"
лейтенант Александр Васильевич Колчак. Пробираясь в ледяной
каше, перетаскивая вельбот через торосы, обследовал по пути
шесть островков, достиг отряд о. Беннета и отыскал избушку
Толля. Там была найдена коллекция и документы барона, а
также записка, датированная 26 октября 1901 г. Оказалось,
что, отчаявшись дождаться "Зари", Толль со спутниками на
двух байдарах покинул остров, направляясь на материк.
И вот спустя 11 лет лейтенанты Жохов, Неупокоев и Петерсен,
а также доктор Старокадомский и 16 матросов, руководствуясь
наброском острова, найденным Колчаком, и преодолев к вечеру
15 верст, вышли на южный берег. Среди разметанных бурями
замшелых бревен жалкого жилища они нашли четыре развалившихся
ящика с образцами пород - те, что не смог погрузить на вельбот
Колчак. Рядом валялась ржавая берданка без затвора, пила
из оленьего рога, банки из-под пикулей, обрывки обуви. Захватив
находки, на следующее утро посланцы вернулись на корабли.
На "Таймыре" уже был готов большой деревянный крест с медной
луженой доской и надписью:
"Памяти погибших в 1902 году:
Начальника экспедиции барона Эдуарда Толль,
Aстронома Фридриха Зеберг,
Проводников Николая Горохова и Василия Протодьяконова.
Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана
5 сентября 1913 г."
Крест водрузили на самой вершине утеса Баронессы Толль.
***
МИР УЗНАЛ ОБ ОТКРЫТИЯХ
22 сентября вступили в Берингов пролив. И вновь угодили
в сильнейший шторм. Размах качки достигал 55°. На "Таймыре"
лопнул штуртрос, на "Вайгаче" сорвало антенну. Ночью корабли
потеряли друг друга из виду и лишь на третий день, когда
шторм немного утих, встретились у о. Св.Лаврентия. Выяснилось,
что запасы угля не позволяют дойти до Петропавловска. Поэтому
решили идти на Аляску за углем и утром 27 сентября бросили
якорь на рейде Сан-Майкла.
Когда-то здесь был российский редут Михайловский, свидетельством
чему осталось несколько русских пушек, скромно полеживавших
в сарайчике. Одну из них, самую маленькую, городские власти
презентовали экспедиции. Сохранилась в городке и деревянная
православная церковь, приход которой составляли две русских
семьи да около сотни крещеных чукчей. Пока корабли принимали
уголь и продовольствие, а также занимались ремонтом, матросы
починили и выкрасили прохудившуюся крышу церквушки. В городке
имелась и довольно мощная радиостанция, поэтому тотчас по
прибытии в Петербург была послана официальная телеграмма
о сделанных открытиях. Сенсацию мигом подхватили и разнесли
по свету газетчики всех стран.
12 ноября, оставив за кормой более 13 тыс. миль, ледоколы
стали на якорь на рейде Владивостока. И пока "Таймыр" и
"Вайгач" зимовали там, в Петербурге состоялся приказ морского
министра № 14 от 10.01.1914 г.:
"Государь Император в 6-й день января 1914 года по всеподданнейшему
моему докладу отчета о плавании в 1913 году Гидрографической
экспедиции Северного Ледовитого океана Высочайше повелеть
соизволил: Присвоить земле, расположенной к северу от мыса
Челюскин наименование: "ЗЕМЛЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II; острову,
лежащему к северу от того же мыса - "ОСТРОВ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ"
островку к юго-востоку от острова Беннета - остров генерала
Вилькицкого".
А неделей позже высочайшим приказом по морскому ведомству
№ 1237 Император изъявил особую признательность капитану
Вилькицкому, офицерам объявил Монаршее благоволение, а нижним
чинам - царское спасибо. Вскоре Вилькицкий был пожалован
аксельбантом флигель-адъютанта.
***
ТЕРНИСТ ПУТЬ К СЛАВЕ
С началом навигации 1914 г. ледоколы вновь, в четвертый
уже раз ушли на север. По пути им пришлось зайти на Аляску,
чтобы починить, появившийся в экспедиции гидросамолет. Там
они узнали, что в Европе разразилась война. И сразу в Питер
полетела депеша с просьбой офицеров разрешить им участвовать
в боевых действиях, как повелевали им долг и честь. Но ответ
из столицы потребовал выполнять задачи экспедиции.
14 августа прошли мимо острова Генерала Вилькицкого. На
вершине по-прежнему крепко держался флагшток с лоскутками
изодранного ветрами флага. Через три дня прошли мимо неизвестного
острова, который на обратном пути в прошлом году ошибочно
приняли за остров Генерала Вилькицкого. Он оказался значительно
больше - миль 20 в окружности. Водрузили и на нем Русский
флаг. (Позже остров будет назван по фамилии командира "Вайгача"
П.А. Новопашенного, а после его эмиграции переименован в
остров Жохова.)
К 20 августа подошли к новооткрытому архипелагу. Обследовали
и описали южное побережье Земли Императора и определили
западные очертания о. Цесаревича. Положили на карту еще
один остров, тот, что в прошлом году первым заметил доктор
Старокадомский. Однако ледоколы вновь оказались бессильными
перед необозримыми ледяными громадами, и 11 сентября стало
ясно, что постановка на зимовку неизбежна.
К утешению, хотя довольно слабому, в эфире вдруг послышались
неизвестные позывные. С Большой землей переговаривался "Эклипс"
- норвежский барк, купленный Россией для поисков экспедиций
Брусилова и Русанова. Командовал им Отто Свердруп, бывший
командир "Фрама" и спутник Нансена. "Эклипс" тоже вмерз
во льды в 180 милях от "Таймыра" и "Вайгача". Таким образом
поблизости оказался опытный советчик для зимовщиков-новичков.
К тому же мощная радиостанция норвежца держала устойчивую
связь с материком, что давало экспедиции счастливую возможность
связываться с Петроградом. (Так, в угоду германофобам теперь
именовался Петербург.)
На Рождество из выкрашенных веников устроили елку. Один
из офицеров прочел молитву, хором пропели рождественский
тропарь, зажгли свечи. Матросам выдали по бутылке японского
пива. Новый год встретили консервированными ананасами и
бокалом шампанского на каждого нижнего чина. Зачитали телеграмму
Императора: "Я желаю экспедиции счастливого Нового года
и успешного окончания плавания".
29 января над горизонтом блеснул краешек солнца. По такому
случаю матросы устроили очень не дурной карнавальный спектакль,
состязались в беге в мешках и в стрельбе. Все это несколько
скрасило будни зимовки. 16 февраля от воспаления почек умер
лейтенант А.Д.Жохов. По его желанию моряка похоронили на
берегу, рядом с недавно умершим от аппендицита кочегаром
Ладоничевым (3). На
кресте, сделанном из плавника, укрепили образ Христа, сопровождавший
лейтенанта во всех его плаваниях, и доску с написанной самим
Жоховым эпитафией:
"Под глыбой льда холодного Таймыра,
Где лаем сумрачным испуганный песец
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,
Найдет покой измученный певец..."
С 11 апреля солнце больше не опускалось за горизонт, но
вопреки ожиданиям начавшийся полярный день оказался довольно
тягостным. Вечное солнце давило на психику и от него никуда
нельзя было скрыться. От ослепительного блеска снегов воспалялись
глаза, и все принялись мастерить темные очки. Но ничто не
вечно, и к июню лед стал быстро таять. Корабли выбрались,
наконец, на открытую воду, взяв курс на Архангельск. 3 сентября
1915 г. на Соборной пристани собрался чуть ли не весь город.
"Таймыр", "Вайгач" и "Эклипс" в кильватерной колонне подходят
к пристани. Грохочет приветственный салют, гремит оркестр.
Все слышнее восторженные выкрики близких, не раз терявших
надежду увидеть родные лица. Наконец, спущены сходни. Ступив
на родную землю, виновники торжества вместе со всеми собравшимися
направились в собор, чтобы возблагодарить Господа, сохранившего
их от опасностей полярных вод. А потом городская дума торжественно
чествовала Русского Колумба, как был назван Вилькицкий в
поднесенном ему приветственном адресе.
Вскоре военные будни взяли свое. 1 октября экспедицию расформировали,
а офицерам и матросам "предоставили возможность перейти
на другие суда и должности, чтобы принять участие в действиях
боевого флота".
***
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Поразительно, но на первой советской карте Севера, подготовленной
еще до революции Главным гидрографическим управлением морского
министерства, севернее мыса Челюскин - голо, а все пространство
Ледовитого океана прикрывал ее заголовок. Вероятно, новые
власти смутили "одиозные" названия открытых недавно земель.
Правда, они пытались использовать полярный опыт Русского
Колумба, назначив его в 1918 г. начальником Первой советской
гидрографической экспедиции. Но гражданская война смешала
все карты, а сам Б.А. Вилькицкий в 1920 г. эмигрировал в
Англию.
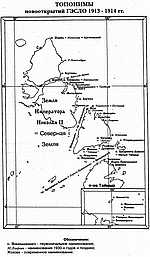
Отгремела гражданская война, убрались домой интервенты, Россия
пребывала в разрухе, ее морские силы были практически утрачены.
Пользуясь этим, вездесущие янки подняли в 1924 г. на русском
о. Врангеля свой звездно-полосатый флаг. Чтобы изгнать незваных
гостей, в пожарном порядке из Владивостока был послан к острову
портовый ледокол "Надежный", вооруженный и переименованный
в канонерку "Красный Октябрь". Нарком же иностранных дел СССР
Чичерин подготовил Меморандум № 297 от 4 ноября того же года,
в котором, в частности, говорилось:
"Правительство Союза ССР, которому пришлось неоднократно
констатировать нарушение территориальных прав Союза со стороны
иностранцев в отношении некоторых островов, находящихся
у северного побережья Сибири, вынуждено заявить всем державам
нижеследующее:
В сентябре 1916 г. Российское правительство известило все
союзные и нейтральные державы, что нижеперечисленные острова
составляют неотъемлемую часть российской территории, а именно:
остров генерала Вилькицкого, Земля императора Николая II,
остров цесаревича Алексея..."
Однако уже в 1928 г. в связи с полетами Нобиле советским
властям пришлось выпустить карту Ледовитого океана. На ней
Земля Императора была уже названа Северной Землей (4).
В следующем году на карте этого океана появится еще один
топонимический вариант: Таймырский архипелаг. Причем остров
Цесаревича Алексея назван Малым Таймыром.
В 1930 - 1932 гг. Североземельская экспедиция Г.А. Ушакова
провела картографирование островов, что советская пропаганда
пыталась представить как открытие неизвестной земли. Даже
автор известных книг о мореходах С.Н. Марков, например,
так писал о них: "Эти люди открыли для нашей Родины огромную
полярную страну", ни словом не обмолвившись о Вилькицком.
Между тем, при всем уважении к мужественной четверке Ушакова
надо признать, что его экспедиция являлась не более, чем
продолжением экспедиции Вилькицкого. А вот после нее в 1935
г. была издана карта Северной части Карского моря и на ней
появились созвучные эпохе названия островов - Большевик,
Комсомолец и Пионер, а также мысы - Уншлихта, Молотова,
Розы Люксембург и Карла Либкнехта... При этом с карты исчезли
фамилии многих участников экспедиции Вилькицкого, и прежде
всего эмигрантов и носителей немецких фамилий.
Но метаморфозы с топонимами продолжались и позже. Бухта
Новопашенного, например, превратится в Тройную, мыс Рудовица
станет Дровяным, а мыс Жохова, уступив сперва свое имя Молотову,
станет потом мысом Арктическим. Исчезнет остров первого
командира "Вайгача" А.В. Колчака, зато добавится еще один
остров Расторгуева. Появится на карте некий "усредненный"
Вилькицкий, когда пролив потеряет имя Бориса, а остров -
чин его отца-генерала. И т.д., и т.п.
1996 г. - знаменательный для нас год 300-летия российского
флота - является также годом 80-летия официального признания
крупнейших географических открытий Гидрографической экспедиции
Северного Ледовитого океана под руководством Б.А. Вилькицкого
и годом спасения потомками от разрушения полярными стихиями
могил участников этой экспедиции - А.Н. Жохова и И.Н. Ладоничева,
а также переноса праха Бориса Андреевича Вилькицкого с чужбины
на Родину. Поэтому хочется верить, что истинные наименования
новооткрытых тогда земель вернутся на карты Мирового океана.
Полковник в отставке В.РЫКОВ
(1) Имя - это предзнаменование
(лат.). назад
(2) Газета "Возрождение".
№№3136,3140. Париж, 1933. назад
(3) Летом нынешнего,
1996 г., наши моряки при участии родственника Л.Д. Жохова
перенесли прах первопроходцев на новое, безопасное место
- там же, на Таймыре, на мысе Могильном. назад
(4) Относительно
этого переименования некоторые авторы в своих публикациях
делают ссылку на Постановление Президиума ЦИК от 11 января
1926 г. Такое постановление, однако, в сборнике документов
не опубликовано. (Постановления ЦИК, През.Цик, СНК, CTO
№№ 1-3, январь, 1926 г. Изд. Упр. Делами СНК С.С.С.Р.) назад
|