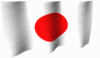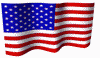Суригао (Surigao Strait), пролив в
Филиппинском архипелаге. Соединяет море Минданао с Тихим
океаном. Длина около 100 км, наименьшая ширина около 22
км. Глубина 25 - 54 м, на юго-западе до 1000 м. Течения
направлены на запад и юго-запад, их скорость до 50 см/сек.
Большая советская энциклопедия

В последней декаде октября 1944 г. вокруг американского плацдарма на острове Лейте в центральной части Филиппинского архипелага развернулась непрерывная череда морских боев, вошедшая в историю Второй мировой войны как сражение при Лейте. Для американцев и поклонников "звездно-полосатой" военно-морской мощи эта битва - самая крупная и значимая победа, когда-либо одержанная ВМС США, триумф американского оружия. Для почитателей боевой истории Nihon Kaigun битва в водах Филиппинского архипелага - это лебединая песня японского военного флота, история жертвенной стойкости Одзавы, упущенных возможностей Куриты, трагического финала Нисимуры. Размах и значение сражения, калейдоскопическое чередование участия в нем всевозможных сил и средств вооруженной борьбы на море, высота стратегических ставок и, наконец, проявление участниками боев - от адмиралов до матросов - всей палитры человеческих качеств в полной мере объясняют и оправдывают интерес к нему как профессиональных историков, так и любителей. Подробное изучение хода баталии началось практически сразу после ее завершения. В первую очередь этим занялись американцы, несмотря на свою победу несколько ошарашенные тем, что мощнейшее соединение вражеских линкоров и крейсеров совершенно неожиданно появилось в самой уязвимой части их боевого порядка, и что только моральная неготовность вице-адмирала Куриты идти до конца уберегла силы вторжения от катастрофы. К настоящему времени сражение при Лейте довольно подробно описано на русском языке и его разбор явно выходит за рамки настоящей статьи. Обратим внимание лишь на ночной бой в проливе Суригао. Общая картина событий хорошо известна. Японская эскадра под командованием вице-адмирала Нисимуры Сёдзи (здесь и далее японские фамилии и имена даны в порядке, принятом в Японии: вначале фамилия, затем - имя) в составе двух линкоров, тяжелого крейсера и четырех эсминцев в ночь на 25 октября 1944 г. входит в пролив Суригао, теряет в ходе торпедных атак два эсминца и линкор "Фусо". На выходе из пролива флагманский "Ямасиро" гибнет под орудийным огнем вражеских линкоров, на отходе американцы топят поврежденные крейсер "Могами" и эсминец, а баловень судьбы - эсминец "Сигурэ" ускользает из ловушки, записывая на свой счет очередной обман сурового Фатума. Однако даже беглый анализ не только отечественных, но и зарубежных источников показывает, что не все так просто. Инвариантность версий боя, его недосказанные аспекты, тайны, унесенные в пучину адмиралом Нисимура, порождают массу вопросов, как тактического, так и технического характера. Дело доходит до того, что маститые авторы противоречат друг другу и в своих описаниях меняют местами судьбы линкоров Нисимура. Даже среди работ, изданных в Японии, встречаются две версии гибели "Фусо" и "Ямасиро"! Таким образом, бой в проливе Суригао - практически единственный в современной истории факт неоднозначной трактовки судеб таких крупных единиц флота, как линейные корабли. Кстати, оценка действий самого Нисимуры, похоже, давно стала шаблонной, и лишь колеблется от снисходительной до резко критичной. Практически не делается попыток найти объяснение его действий. Не претендуя на лавры первопроходца в решении обозначенных исторических головоломок, предлагаю проследовать за американским историком Аллином Д. Невиттом, который для своей работы "Shell Game at Surigao: The entangled fates of battleships FUSO and YAMASHIRO" (Интернет, 1999) (*) изучил массу документов, в том числе боевые отчеты кораблей обоих противоборствующих флотов - участников боя в проливе Суригао и подлинные материалы допросов японских военнопленных, немногих спасенных американцами моряков из числа экипажей кораблей Нисимуры. Ознакомившись с его исследованием, поставил свои вопросы и я. И попытался на них ответить.
"ФУСО" И "ЯМАСИРО"
Утром 18 октября стало очевидно, что местом первого крупного
плацдарма американцев на Филиппинском архипелаге станет
остров Лейте. Командующий Объединенным флотом адмирал Тоёда
Соэму отдал приказ на начало операции "Сё-1" (или "Sho-Go",
такое обозначение получил план генерального морского сражения
в районе Филиппин) и все задействованные силы японского
флота пришли в движение. Уничтожение американского соединения
вторжения и удар по плацдарму на Лейте планировалось осуществить
силами крупных артиллерийских кораблей (авианосная мощь
Объединенного флота к этому времени была безвозвратно подорвана),
коим предстояло попасть в залив Лейте (тихоокеанское побережье
одноименного острова) с севера и юга, пройдя через Филиппинский
архипелаг соответственно морем Сибуян и проливом Сан-Бернардино,
а так же морем Минданао и проливом Суригао.
 Флагманский корабль Соединения С линкор
"Ямаширо" (предвоенное фото)
Флагманский корабль Соединения С линкор
"Ямаширо" (предвоенное фото)
Первое Ударное соединение вице-адмирала Куриты Такэо, включавшее 2-ю дивизию линейных кораблей вице-адмирала Нисимуры, во второй половине дня 18 октября покинуло свою базу в Лингга-Роудз к югу от Сингапура и направилось в Бруней (о. Борнео), чтобы принять топливо. Здесь эскадра под командованием Нисимуры была выделена из состава сил Курита в качестве самостоятельного соединения (т.н. Соединение "С" или "Южная группа"). Корабли Куриты (теперь - Соединение "А" или "Центральная группа") покинули Бруней 22 октября в 08:00 и взяли курс на северо-восток. Нисимура, держа флаг на линейном корабле "Ямасиро", вывел свою эскадру в море в 15:10 в тот же день. Дойдя вслед за Соединением "А" до пролива Балабак (между островами Борнео и Палаван), Соединение "С" повернуло в море Сулу. Тем временем силы Куриты шли вдоль берегов Палавана. Американская субмарина "Дартер", патрулировавшая у пролива Балабак, в ночь на 23 октября производила зарядку батарей. Неожиданно ее радиолокатор обнаружил приближающиеся со стороны Борнео корабли противника. Цели направлялись в проход Палаван со скоростью 23 узла. Командир лодки предпринял практически безнадежную попытку догнать проходящих мимо японцев. В крайнем случае он надеялся навести на вражеский отряд патрулировавшую у северного берега Палавана подлодку "Дейс". "Дартер" устремился в погоню, покинув свою важную позицию. Японские корабли (вероятнее всего, это была следующая в Манилу 16-я ДКР контр-адмирала Сакондзю Наомаса: тяжелый крейсер "Аоба", легкий крейсер "Кину", эсминец "Уранами") все-таки проскочили мимо "американок". Зато "Дартер" и "Дейс", встретившись перед рассветом, утром 23-го числа успешно атаковали соединение Куриты, начав тем самым сражение при Лейте. Для нас же важно, что маневр "Дартера" обернулся удачей для Нисимуры. Его эскадра беспрепятственно прошла пролив Балабак в море Сулу. Хотя после атак субмарин американцы обратили самое пристальное внимание на перемещение соединения Куриты, Южная группа ухитрилась пересечь море Сулу необнаруженной. Ее местоположение - практически у западных берегов Филиппин - стало известно американцам только утром 24 октября благодаря оснащенным радиолокаторами палубным разведчикам TF 38.
 Линейный корабль "Фусо"
Линейный корабль "Фусо"
Удача сопутствовала Нисимуре и далее. Если американские палубные самолеты 24 октября дали кораблям Курита в море Сибуян настоящий бой, то единственная атака вражеской авиацией Соединения "С" состоялась в тот же день в 09:18. В ходе нее самолеты с авианосца "Франклин" смогли добиться весьма скромных успехов. Флагманский "Ямасиро" без малейшего ущерба выдержал несколько близких разрывов. Одна бомба поразила квартердек линкора "Фусо", пробила верхнюю палубу и взорвалась в кают-компании. Возник пожар в находящихся рядом танках авиационного бензина, который уничтожил гидросамолеты линкора. Тем не менее пожар на "Фусо" выглядел страшнее, чем все обстояло на самом деле. Команда справилась с ним в пределах сорока пяти минут. Практически, кроме потери гидросамолетов, попадание бомбы не причинило кораблю серьезного ущерба. Кроме "Фусо" пострадал эсминец "Сигурэ": на нем прямым бомбовым попаданием перебило расчет носовой орудийной башни, но сама башня осталась действующей. Всю остальную часть дня Нисимура совершенно беспрепятственно следовал морем Минданао, достигнув южного входа в пролив Суригао поздним вечером 24 октября.
 Американские палубные самолеты атакуют "Фусо". 24 октября
1944 г.
Американские палубные самолеты атакуют "Фусо". 24 октября
1944 г.
Тем временем вдоль западного побережья Филиппин к югу спешило Второе Ударное Соединение (или т.н. "Северный отряд"), которым командовал вице-адмирал Сима Кийохиде. Это соединение, сгруппированное вокруг двух тяжелых крейсеров 21-й ДКР ("Нати" - флагман, "Асигара") покинуло Куре 14 октября и первоначально должно было выдвинуться в район южнее Формозы. Когда во второй декаде октября там разгорелось крупномасштабное воздушно-морское сражение между палубной авиацией быстроходных авианосцев 3-го Флота США и японскими авиагруппами, действующими с аэродромов Формозы и оккупированного китайского побережья, японские штабы оказались засыпанными победными сообщениями об уничтожении и повреждении вражеских кораблей. В принципе, пилоты всех стран в ходе Второй мировой в той или иной мере искажали результаты своих действий (почему-то всегда в сторону завышения!), но в данном случае японцы превзошли всех и вся. Официальный имперский радиорупор - "Токийская Роза" - заявил о потоплении 11 американских авианосцев, 2 линкоров и 3 крейсеров при соответствующем числе "поврежденных" вражеских единиц. Искать и топить этих "подранков" как раз и направлялся Сима. Уже утром 16 октября воинственный пыл вице-адмирала несколько охладили атаки американских палубных самолетов. Получив уточненные разведцанные о нахождении поблизости нескольких весьма боеспособных вражеских авианосцев, Сима счел за благо укрыться в гавани Амами-О-Сима. Здесь он и получил приказ адмирала Тоёды выдвинуться к югу курсом на Пескадорские острова. Корабли - 2 тяжелых и легкий крейсер, 7 эсминцев - вышли в море в 15:30 18 октября. Уже в пути задачу Второго Ударного Соединения конкретизировали: принять участие в операции "Сё-1", оказать поддержку Соединению "С", вместе с которым форсировать пролив Суригао для атаки с юга американских сил вторжения, находящихся в заливе Лейте. На рассвете 20 октября адмирал Сима привел свою эскадру в Такэо - порт на западном берегу Формозы. Здесь три эсминца 21-го ДНЭМ ("Вакаба" - лидер, "Хацусимо" и "Хацухару"), временно выделенные для перевозки экипажей самолетов с Формозы в Манилу, покинули ордер соединения. Остальные корабли в 16:00 следующих суток продолжили путь на юг Необходимо отметить, что перспектива предстоящего "взаимодействия" между Соединением "С" и Вторым Ударным Соединением порождала специфическую, чисто японскую проблему. Вице-адмирал Сима по своей должности - командующий 5-м Флотом - был по меньшей мере на ступень выше вице-адмирала Нисимуры, являвшегося всего лишь командиром ДЛК, и не подчинялся непосредственному начальнику последнего - вице-адмиралу Курите. Получить тот или иной приказ Сима (как и Курита) мог только из Токио! В то же время, состав сил Нисимуры и тот факт, что ему предстояло пройти пролив Суригао первым, определял его фактическое главенство в предстоящем прорыве в залив Лейте южным маршрутом. Неразрешимую задачу из области восточного военного этикета уладили чисто по-японски: ее не стали решать вообще. Никакой связи между двумя адмиралами с момента начала операции "Сё-1" и до развязки боя в проливе не было, и ни один из них не предпринимал никаких попыток координировать действия своих соединений: Сима не мог "подстраиваться" под действия младшего по должности; Нисимура же избегал ставить в неудобное положение старшего. Ничего более нелепого с точки зрения европейско-американской военно-морской практики представить себе невозможно, зато оба японских командующих "сохранили лицо"... Когда поздним утром 24 октября эскадру Симы последней из ударных японских отрядов обнаружила в море Сулу американская воздушная разведка, командование 7-го флота США допустило грубую ошибку. Американцы сделали вывод, что речь идет о ранее обнаруженном в этом районе соединении противника (Нисимура). "Разница между двумя тяжелыми крейсерами, одним легким крейсером и четырьмя эскадренными миноносцами отряда Симы и двумя линейными кораблями, одним тяжелым крейсером и четырьмя эскадренными миноносцами отряда Нисимуры замечена не была", - честно констатирует Ф. Шерман. Таким образом, приближающиеся вражеские силы оценивались Кинкейдом и его штабом примерно как вдвое меньшие против реальных. При другом раскладе сил и географии места предстоящего боя эта ошибка могла дорого стоить американцам. Однако их преимущество в силах и диспозиции было настолько велико, что даже такой промах не имел ни малейшего значения. Если основная часть Второго Ударного Соединения до самого входа в южное горло пролива Суригао не испытала никакого воздействия со стороны противника, то эсминцы 21-го ДНЭМ, благополучно выполнившие свою транспортную миссию, так и не смогли соединиться с флагманом. Днем 24-го эсминцы кэптена Исии были перехвачены у западного берега о. Панай палубными самолетами 3-го флота США. Летчикам с авианосца "Франклин" удалось потопить "Вакаба", который стал первой потерей вице-адмирала Сима. Отделавшийся легкими повреждениями от близких разрывов "Хацусимо" и "Хацухару" в тот же день вернулись в Манилу с 78 спасенными с "Вакаба" (включая командира дивизиона Исии и командира эсминца лейтенант-коммандера Ниноката), и получили приказ остаться там для участия в доставке подкреплений на Лейте. В 18:30 24 октября на "Ямасиро" приняли радиограмму от Куриты с сообщением, что, в связи с воздушными атаками в море Сибуян, Центральная группа задерживается относительно определенного планом времени прибытия в залив Лейте. Однако Нисимура никак не отреагировал на это сообщение. Он следовал прежним курсом с прежней скоростью и подтвердил свои намерения адмиралу Тоёда радиограммой в 19:00 - "Мы атакуем всеми силами". Тем временем, командующий 7-м флотом США вице-адмирал Кинкейд, полагая, что с севера он будет надежно прикрыт кораблями Хэлси, планировал оборону плацдарма от угрозы с юга. Для артиллерийского боя он располагал двумя группами огневой поддержки, которыми командовали контр-адмиралы Джесси Б. Олдендорф и Дж. Л. Уэйлер. Эти силы и были направлены к северному выходу из пролива Суригао в начале дня 24 октября. Внушительную эскадру из 6 линейных кораблей, 4 тяжелых и 4 легких крейсеров, 28 эсминцев и 39 торпедных катеров возглавил контр-адмирал Олдендорф (флаг на крейсере "Луисвилль"). Уэйлер (флаг на "Миссисипи") получил под непосредственное командование основную часть эскадры - шесть линкоров.
 Флагманский корабль контр-адмирала Олдендорфа крейсер "Луисвилль"
Флагманский корабль контр-адмирала Олдендорфа крейсер "Луисвилль"
К вечеру подготовка ловушки завершилась. На выходе из пролива поперек очевидного курса противника маневрировала кильватерная колонна линкоров. Их ближнее прикрытие обеспечивали шесть эсминцев дивизиона коммандера Хаббарда. Крейсерские силы и остальные эсминцы разделились на две примерно равные части. Левый фланг позиции - у восточного берега пролива - предстояло оборонять группе контр-адмирала Роберта Хейлера: три тяжелых (в том числе флагманский "Луисвилль") и два легких крейсера, а также девять эсминцев 56-й эскадры кэптена Роланда Смута, разделенных на три группы, возглавляемые самим Смутом, кэптеном Конлеем и коммандером Боулваром. На правом фланге - со стороны о. Лейте - предстояло действовать крейсерам контр-адмирала Берки: два легких американских и тяжелый австралийский "Шропшир", типа "каунти". Им придавались 13 эсминцев 24-й (кэптен МакМанес) и 54-й (кэптен Джесси Г. Ковард) эскадр. Кораблям Коварда предстояло выступить в качестве авангарда и произвести торпедные атаки в самом проливе. Торпедные катера лейтенант-коммандера Р.Э. Лисона, подразделенные на 13 дозорных групп по три катера в каждой, рассредоточились в проливе и на подходах к нему. В связи с отсутствием на эскортных авианосцах 7-го флота ночных разведчиков, на эти дозорные группы возлагалась задача заблаговременного обнаружения противника. Торпедные катера получили приказ сообщать обо всех контактах и самостоятельно атаковать. Нельзя не отметить, что среди тяжелых кораблей Олдендорфа насчитывалось шесть ветеранов Пирл-Харбора. Линкоры "Вест Вирджиния" и "Калифорния" были потоплены, а "Теннеси", "Мэриленд" и "Пенсильвания" повреждены японской авиацией 7 декабря 1941 г. в главной базе Тихоокеанского флота США, затем, в 1942-1944 гг. подняты, восстановлены и модернизированы. Кроме того, в "День позора" в Пирл-Харборе находился крейсер "Финикс". Что касается миноносных сил, то из 28 эсминцев, приведенных Олдендорфом к северному горлу пролива Суригао, 25 (исключение составляли "Торн", "Уэллес" и австралийская "Арунта") относились к новейшим кораблям типа "Флетчер". Очень крупная группировка однотипных кораблей, одновременно участвующих в сражении! При складывающемся соотношении сил, а также из-за географических особенностей места предстоящего боя Соединение "С" не только не имело шансов на успех (имея в виду - прорыв в залив Лейте, запомним эту важную сноску!), но было просто обречено на полное истребление. Что касается адмирала Олдендорфа, то от него не требовалось демонстрации каких-либо выдающихся тактических решений. Следовало лишь своевременно обнаружить противника и нанести согласованный торпедно-артиллерийский удар. Единственным поводом для беспокойства Олдендорфа стала нехватка боезапаса на линкорах, с 20 октября подавлявших береговые цели в районе высадки десанта, и отсутствие запасных торпед на эсминцах. На "Теннеси" оставалось 396 бронебойных и 268 фугасных снарядов главного калибра. "Калифорния" располагала соответственно 240 и 78, "Пенсильвания" - 360 и 93, "Миссисипи" - 201 и 543, "Мэриленд" - 240 и 445, "Вест Вирджиния" - 200 и 175. Этого боезапаса, конечно же, не хватало на полномасштабное сражение типа Ютландского, однако было более чем достаточно для предстоящего расстрела зажатого берегами противника. В сумерках для поиска и торпедной атаки японских кораблей были направлены два "Черных Кота" (вооруженные торпедами гидросамолеты "Каталина", оборудованные в качестве ночных разведчиков). Эскадру Нисимуры они не нашли, зато американский же торпедный катер в темноте по ошибке сбил один из самолетов (известный техасский принцип: стреляющий первым живет дольше). По всей видимости, Нисимура имел достаточное представление о противостоящих ему силах. Поднятый в воздух в 12:35 разведывательный гидросамолт с "Могами" докладывал обстановку по курсу движения эскадры. Впрочем, это никоим образом на действия японского адмирала не повлияло. Погодные условия в проливе Суригао в ночь на 25 октября благоприятствовали применению всех видов оружия, и, в первую очередь, американцам, имевшим неоспоримое численное превосходство и располагавшим достаточно совершенными радарами для обнаружения целей и корректировки артиллерийского огня. Волнение не превышало 2 баллов. После сумерек до полуночи воздух был чист. Молодой месяц зашел в 00:06. Появившиеся позже рваные облака дополнительно сгустили темноту. Изредка налетали кратковременные дождевые шквалы, но в целом, для восточных Филиппин ночь можно считать исключительно ясной и сухой. На подходе к проливу Суригао Нисимура послал вперед на разведку "Могами" и три эсминца, оставив с линкорами один "Сигурэ". Группа "Могами" контакта с противником не имела и вскоре вновь соединилась с главными силами. Тем временем "Сигурэ", оставшийся единственным "охранником" линкоров, отличился. Первый контакт между кораблями противоборствующих сторон в проливе Суригао состоялся 24 октября в 22:36. Торпедный катер РТ-131, находящийся в патруле у о. Бохоль, обнаружил подходящее Соединение "С" при помощи радиолокатора. РТ-131 и два других катера дозора вышли в первую атаку. В 22:50 на дистанции около трех миль они установили визуальный контакт с японскими линкорами, но в 22:56 "Сигурэ", своевременно обнаруживший противника, отогнал американцев артиллерийским огнем. Впоследствии дозоры торпедных катеров неоднократно атаковали корабли Нисимуры, но добиться попаданий не смогли. В ходе сражения несколько РТ-ботов было повреждено, но погиб только один из них - РТ-493. После того как в 02:13 к юго-западу от о. Лимасава японцы отразили атаку очередной тройки американских катеров (РТ-146, РТ-151, РТ-190), Нисимура получил последнюю 45-минутную передышку. В грядущем бою было суждено погибнуть обоим линкорам, крейсеру и трем из четырех эсминцев, причем все они, за исключением "Могами", ушли на дно вместе с находившимися на борту людьми и судовыми документами. Поэтому для разрешения первой загадки - установления окончательных судеб линкоров и причины послевоенной путаницы в этом вопросе - следует проследить весь хронометраж боя.
 Тяжелый крейсер "Асигара"
Тяжелый крейсер "Асигара"
В 03:00 Южная группа начала изменять походный ордер на кильватерную колонну. Новое построение японских кораблей следует признать более безопасным с точки зрения навигации в проливе, говорить же о каких-либо тактических преимуществах или недостатках колонны в данных конкретных условиях не приходится. В начале четвертого часа строй Соединения "С" выглядел следующим образом. Впереди шли эсминцы "Митисио" (флаг командира 4-го ДНЭМ кэптена Такахаси Камэсиро), "Асагумо", "Ямагумо" и "Сигурэ". Далее с интервалами в один километр следовали флагманский "Ямасиро", "Фусо" и "Могами". Непосредственно после окончания перестроения японского отряда последняя группа американских торпедных катеров намеревалась выйти в атаку. В 02:50 РТ-489, РТ-492 и РТ-495 были готовы атаковать второй крупный корабль в колонне (т.е. "Фусо"). Они еще не имели визуального контакта, но по размерам радарной отметки цель опознали как линкор. Однако прежде, чем катерникам удалось реализовать свой замысел, ситуация резко изменилась. На сцене появились пять американских эсминцев 54-й эскадры кэптена Джесси Г. Коварда и катерам пришлось посторониться.
 Флагман командира 24-й эскадры эсминцев кэптена МакМанеса
DD-476 "Хатчинс"
Флагман командира 24-й эскадры эсминцев кэптена МакМанеса
DD-476 "Хатчинс"
Сам Ковард вел три эсминца ("МакГован - лидер, "Мелвин" и "Римей") вдоль восточного берега пролива, в то время как другие два его корабля ("МакДермут" и "Монссен") следовали вдоль западного. Таким образом, колонне Нисимуры предстояло попасть под удар с обеих сторон. Американские эсминцы начали торпедную атаку с правого борта японцев в 02:59. Западная группа выпустила свои торпеды десятью минутами позже. "Рыбины" восточной группы достигли линии вражеских кораблей в 03:09-03:10. Вахтенный журнал крейсера "Могами", идущего в строю позади "Фусо", описывает произошедшее: "...уклонился от торпед. Прямое торпедное попадание в правый борт "Фусо" посредине корабля вызвало крен на правый борт и потерю скорости. "Фусо" отстал, "Могами" переместился в позицию позади "Ямасиро". После торпедных атак последовал редкий, но точный вражеский артиллерийский огонь". Такими события предстали наблюдателям с "Могами". Только два других японских участника сражения могли бы зафиксировать первоначальное повреждение "Фусо": "Ямасиро" и "Сигурэ". Однако, похоже, что никто на "Ямасиро" (а тем более на "Сигурэ") и не заметил, когда именно "Фусо" отстал от эскадры (и впоследствии погиб). Причиной этого стала завладевшая их вниманием картина одновременного поражения головных эсминцев в 03:20. В результате, первое попадание в "Фусо" из японцев зафиксировали только на "Могами". Подтверждение факта поражения "Фусо" имеется с американской стороны. Более того, похоже, что наблюдаемое "Могами" торпедное попадание в "Фусо" на самом деле не было одиночным. По сведениям с эсминца "Мелвин", находившегося на траверзе "Фусо" и имевшего куда более выгодный угол для наблюдения результатов атаки, чем "Могами", в 03:01:20 он начал отстрел девяти торпед во второй линкор в колонне ("Фусо") с дистанции 11.800 ярдов. Скорость цели оценивалась в 17 узлов, курс - на север. Восьмью минутами позже на эсминце сделана запись: "03:09. Приблизительное время пересечения торпедами вражеской линии. Наблюдаются два отдельных больших взрыва". Одной минутой позже японский отряд, пытаясь уклониться от вражеских торпед, повернул на курс 15 градусов.
 Эсминец DD-480 "Хэлфорд" типа "Флетчер". Корабль интересен
тем, что оказался одним из трех представителей серии, несущих
на борту гидросамолет OS2N-1 "Кингфишер"
Эсминец DD-480 "Хэлфорд" типа "Флетчер". Корабль интересен
тем, что оказался одним из трех представителей серии, несущих
на борту гидросамолет OS2N-1 "Кингфишер"
Таким образом, по крайней мере, одна торпеда, но вероятнее - две, поразили "Фусо" в среднюю часть корпуса. Попаданий могло быть и больше, но на "Мелвине" недооценили скорость противника (реально в тот момент - 20 узлов), и большинство торпед залпа прошли за кормой цели. Что касается попадания (попаданий?), вероятным результатом ударов посредине корабля могло стать затопление котельных или машинных отделений, также возможно начало пожара в непосредственной близости от погребов башен ГК №3 и №4. Взрывы торпед, вероятно, повредили коммуникации, и, возможно, остановили все машины правого борта, существенно снизив скорость линкора. Командир "Фусо" контр-адмирал Бан Масами, приказав переложить руль право на борт, вывел свой корабль из колонны. Скорее всего, чтобы предотвратить столкновение с "Могами" в результате внезапной потери скорости. Записи "Могами" не сообщают о характере последующих маневров "Фусо", поскольку поврежденный линкор очень скоро остался за кормой. Однако наблюдения американских кораблей заполняют некоторые пробелы. Торпедные катера, вынужденные отказаться от атаки, чтобы не мешать эсминцам Коварда, в 03:11 обнаружили свою цель визуально и идентифицировали ее как линкор, двигающийся на север со скоростью около 12 узлов ("Фусо" только что поразили торпеды "Мелвина"). ТКА при помощи радаров отследили дальнейшую потерю линейным кораблем скорости и в 03:20 наблюдали его поворот вправо, на курс 180 градусов. Далее "японец" прошел некоторое расстояние к югу, как будто отступая. Видимо, на "Фусо" действовали часть КО и МО левого борта, но рана гиганта оказалась смертельной. О последнем часе флагманского линкора вице-адмирала Нисимуры известно несколько больше. Эти сведения отражены в боевых отчетах "Могами" и "Сигурэ" (в последнем случае - с оговоркой, которая будет сделана ниже), в донесениях о ходе боя американской стороны, а, главное, в показаниях спасшегося офицера "Ямасиро" лейтенанта Идзаки Сато. В течение боя Идзаки находился около мостика и смог впоследствии дать пояснения не только о полученных "Ямасиро" повреждениях, но и о последних минутах жизни командира линкора и командующего соединением. После того, как "Фусо" в 03:10 вывалился из строя, новое бедствие последовало десятью минутами позже - своих целей достигли торпеды западной группы отряда Коварда. В 03:20 три головных японских эсминца и флагманский линкор получили торпедные попадания со стороны левого борта. "Ямагумо" взорвался и менее чем за 10 минут затонул со всем экипажем, включая командира корабля коммандера Оно Сиро. Поврежденный "Митисио" лег в дрейф, а "Асагумо" потерял носовую оконечность. Причем поражение всех троих относится на счет эсминца "МакДермут". "Ямасиро", "Могами", "Сигурэ" и, первоначально, "Асагумо", продолжили движение на север. Слева дрейфовал "Митисио", позади остались поврежденный "Фусо" и остов "Ямагумо". По свидетельству Идзаки в 03:21 торпеда (выпущенная эсминцем "Монссен") попала в левый борт "Ямасиро" в районе кормовой группы башен ГК и вызвала пожар, создав опасность взрыва боеприпасов. Командир линкора контр-адмирал Синода Кацукийо приказал затопить погреба башен ГК №5 и №6 в качестве меры предосторожности. Хотя скорость корабля временно упала до 10 узлов, повреждение не представляло особой опасности, и в 03:28 флагман смог дать 18 узлов. В 03:30 Нисимура послал срочное радиосообщение вице-адмиралу Курите, в котором изложил ситуацию в том виде, как она ему представлялась: "2 ДЛК. 25 октября 03:30. Вражеские эскадренные миноносцы и торпедные катера расположены с обеих сторон северного входа в пролив Суригао. Два наших эсминца получили торпедные попадания и потеряли управление; "Ямасиро" получил одно торпедное попадание, но продолжает выполнение боевой задачи".
 В проливе Суригао "Вест Вирджиния" смогла рассчитаться с японцами за Пирл-Харбор. Именно ее 16-дюймовки первыми среди орудий американских линкоров открыли огонь по "Ямасиро". Фото сделано 9 ноября 1944 г. в плавдоке ABSD-1
В проливе Суригао "Вест Вирджиния" смогла рассчитаться с японцами за Пирл-Харбор. Именно ее 16-дюймовки первыми среди орудий американских линкоров открыли огонь по "Ямасиро". Фото сделано 9 ноября 1944 г. в плавдоке ABSD-1
Текст этого сообщения заключает в себе два нюанса. Во-первых, доклад не упоминает о повреждении "Фусо". Очевидно, Нисимура не заметил его выход из колонны двадцатью минутами ранее. В темноте за "Фусо" мог быть принят "Могами", следующий теперь за кормой флагмана, а поскольку крейсер сохранял радиомолчание и держал назначенную между мателотами дистанцию, прошло некоторое время, прежде чем Нисимура заинтересовался местонахождением и состоянием своего второго линкора. Во-вторых, подлинные результаты бедствия, постигшего эсминцы Соединения "С", также выпали из поля зрения командующего. Так, в сообщении не говорится, что "Ямагумо" уже затонул. Фактически, в этот момент "Ямагумо" только что скрылся под водой. Поврежденные "Митисио" и "Асагумо" вышли из строя и остались за кормой "Ямасиро". "Сигурэ" повернул на юг в попытке отыскать пропавший в темноте линкор "Фусо". Анализ документов "Сигурэ", сделанный после войны, показал удивительную вещь: его командир лейтенант-коммандер Нисино Сигеру посчитал, что из строя выбыл флагманский линкор! В 03:27 "Сигурэ" разошелся на контркурсе с "Ямасиро" (полагая, что это "Фусо"), а двумя минутами позже прошел мимо "Могами". Переживший войну Нисино пояснил, что "бросок на юг" был вызван возможной необходимостью спасения командующего соединения в случае гибели флагманского линкора - похоже, лейтенант-коммандер четко представлял, что его корабль остался единственным боеспособным эсминцем соединения. Так или иначе, но второй линкор "Сигурэ" так и не обнаружил (он не дошел до "Фусо" всего 5 с небольшим километров), и в 03:30 эсминец снова повернул на север. Спустя две минуты после передачи Курите радиосообщения "Ямасиро" вновь поразила торпеда. Новая волна американских эсминцев начала свою атаку в 03:25, дав торпедный залп и открыв артиллерийский огонь. На сей раз действовали корабли 24-й эскадры кэптена МакМанеса: "Хатчинс", "Дейли", "Бейч", "Арунта", "Киллен" и "Биил". Несколько попаданий их 127-мм снарядов вызвали пожар на надстройке "Ямасиро". Атаку отбивала противоминная артиллерия линкора, но уклониться от торпедного веера громоздкий корабль не смог. Американские исследования относят второе торпедное попадание в "Ямасиро" на счет эсминца "Киллен", который произвел залп в 03:24 и наблюдал взрыв в 03:31:18. На "Могами" записали: "03:40. Наблюдается торпедное попадание в носовую часть "Ямасиро". Это лишнее свидетельство, что на крейсере верно идентифицировали оба линкора и до самого конца сражения не путали их. К слову, "Могами" оказался единственным японским кораблем, маневры и расположение в строю которого позволяли различать линкоры. Примерно в это же время сам "Могами" был поражен снарядами, на нем вышла из строя орудийная башня №3. Торпеда с "Киллена", поразившая "Ямасиро" в левый борт (согласно докладу "Могами" в носовую часть, но Идзаки считал, что ближе к середине корабля), оказала больший эффект, чем предыдущие. Флагман Нисимуры стал быстро терять скорость и одно время давал только 5 узлов. Похоже, что "Могами" и "Сигурэ", ориентируясь на флагман, также уменьшили ход, так как именно в этот момент японский адмирал по радио отдал свой известный приказ: "Мы торпедированы. Вы должны продолжать движение и атаковать противника!". Вероятно, таким образом Нисимура объяснял причину внезапной потери скорости флагманским кораблем, а вовсе не декларировал свое завещание, как это описано у Ф. Шермана, Ж. Блона и в ряде других работ.
 Отремонтированная и модернизированная "Калифорния"
Отремонтированная и модернизированная "Калифорния"
Этот приказ не мог не вызвать некоторого замешательства на мостиках "Могами" и "Сигурэ", которым фактически предписывалось без поддержки "Ямасиро" атаковать вражескую боевую линию. Однако аварийный дивизион линкора быстро вернул ситуацию под контроль. Всего через пять минут после взрыва "Ямасиро" снова мог дать 18 узлов и возобновил движение на север. Как показал Идзаки, "корабль к 03:40 уже получил два торпедных попадания, но все еще был способен поддерживать ход для сражения". Когда около 03:45 в темноте снова появились вражеские эсминцы, Нисимура приказал повернуть на сорок градусов право на борт, а противоминной батарее открыть огонь. Американцы под огнем 5,5-дюймовок быстро ретировались. По этому поводу на "Сигурэ" решили поддержать моральный дух товарищей по оружию приветственной репликой по радио. И адресовали ее... "Фусо"! Нисимура получил радиограмму и лишний раз убедился, что второй линкор находится в строю и идет где-то за кормой флагмана.
 Схема боя в проливе Суригао
Схема боя в проливе Суригао
Эта ошибка на исход сражения повлиять не могла, но внесла свой вклад в послевоенную путаницу версий и трактовок хода боя. Необходимо заметить, что однотипные "Ямасиро" и "Фусо" имели ряд внешних различий, приобретенных после модернизации 1928 г. Наиболее существенными и очевидными из таковых было то, что башня ГК №3 на "Фусо" в походном положении смотрела в нос, а на "Ямасиро" - в корму. На линкорах различались "пагоды", имелись другие характерные детали. Однако в условиях полной темноты однозначно идентифицировать систершипы было действительно нелегко. Вполне естественно, что командир "Сигурэ", единожды допустив ошибку, затем не упускал из виду единственный наблюдаемый линкор, и уже не мог исправить просчет. Принимая радио с "Ямасиро" Нисино просто считал это подтверждением того, что оба линкора Соединения "С" целы. Японским кораблям практически в последний раз удалось отогнать противника. Тем временем катастрофа случилась в самом проливе.
 Линейный корабль "Теннеси" принял активное участи в ночном
бою
Линейный корабль "Теннеси" принял активное участи в ночном
бою
Всего в сорока милях за кормой "Ямасиро", к северу продвигалось Второе Ударное Соединение. К этому моменту оно имело следующий состав: тяжелые крейсера "Нати" (на нем держал флаг вице-адмирал Сима) и "Асигара", легкий крейсер "Абукума" (флаг командира 1-й ЭЭМ контр-адмирала Кимуры Масатоми), эсминцы "Акэбоно", "Сирануи", "Касуми", "Усио". На подходе к проливу Суригао 25 октября Сима лишился легкого крейсера. В 03:25 в проходе между о. Панаон и Минданао "Абукума" левым бортом "поймал" торпеду, выпущенную катером РТ-137 по одному из эсминцев. Контр-адмирал Кимура перенес свой флаг на "Касуми", а покалеченный "Абукума" на 10 узлах поплелся назад. В 03:45 на кораблях Симы, а также на находящихся в проливе Суригао американских эсминцах и торпедных катерах РТ-489, РТ-492, РТ-495, наблюдали огромную ослепительную вспышку и поднимающийся к небу огненный шар. Это взорвался "Фусо". В 03:20 японские корабли показались на экране радара "Теннеси"". В этот момент дистанция между японцами и американскими линкорами составляла 20 миль. "Теннеси" доложил о готовности открыть огонь, но Олдендорф приказал: "Ждать". Спустя 10 минут, когда дистанция сократилась до 165 каб, контр-адмирал Уэйлер передал по колонне сигнал "Открыть огонь с дистанции 26.000 ярдов" (примерно 130 каб). Артиллерийскую часть боя начали американские крейсера. Первый залп по японцам в 03:51 с дистанции 78 каб дал флагман Олдендорфа "Луисвилль". В течение минуты огонь открыли остальные крейсера, а в 03:53 прозвучал рев 16-дюймовок линкора "Вест Вирджиния", к которому вскоре присоединились "Теннеси" и "Калифорния". Именно эти три корабля, оборудованные наиболее современными артиллерийскими радарами Mk 8, выпустив 225 356-мм и 406-мм снарядов, внесли решающий вклад в расстрел флагмана Нисимуры. Впоследствии Идзаки сообщил, что американские снаряды ложились точно и кучно, вскоре вызвав пожар у основания надстройки и около мостика. Другие три американских линкора, имевшие старые радары Mk3, испытывали объективные трудности в управлении стрельбой: "Мэриленд" сделал 48 выстрелов, "Миссисипи" дал всего один залп (по некоторым данным - неприцельный, чтобы разрядить орудия), а "Пенсильвания" так и не смог открыть огня. В то время когда заговорила артиллерия американских крейсеров (в 03:52) произошли две взаимосвязанные вещи. Во-первых, скорость "Ямасиро" была снижена до 12 узлов, а его курс несколько склонился к востоку, как будто флагманский линкор на мгновение задумался, вступать ли в сражение. Во-вторых, Нисимура запросил по радио выпавший из поля зрения "Фусо" (этот запрос зарегистрирован в вахтенном журнале "Сигурэ"): "Сообщите вашу максимальную скорость!". Похоже, что около 03:50 Нисимура наконец с тревогой узнал, что его второй линкор покинул строй. По-видимому, шедший за кормой флагмана "Могами" подошел достаточно близко для точной идентификации, и теперь командующий требовал, чтобы "Фусо" сообщил о своем состоянии. Как говорилось выше, "Сигурэ" посылал ряд сообщений, адресуя их "Фусо", а поскольку Нисимура не мог знать, что Нисино перепутал линейные корабли, вероятно адмирал принимал эти сообщения в качестве свидетельства того, что "Фусо" находится где-то за кормой. Время и текст радиозапроса являются важным и неоспоримым доказательством того, что линкором, оставшимся в проливе в катастрофическом положении, был "Фусо", а к северному выходу из пролива под стволы американских орудий вышел "Ямасиро". Действительно, запись в вахтенном журнале "Могами" поясняет, что это сообщение послал непосредственно вице-адмирал Нисимура. Являйся "Ямасиро" кораблем, взорвавшимся в 03:38 - 03:45, он не мог бы послать сообщение для "Фусо" в 03:52. Кроме того, характер самого сообщения подразумевает, что флагманский корабль шел по проливу первым, оставив систер-шип позади. Легко вообразить, что Нисимура, вынужденный предстать перед мощным вражеским строем, попытался перед началом дуэли гигантов найти второй линкор для координации действий. К несчастью для японского командующего, если он действительно замедлил движение на север в ожидании помощи, получить ее не удалось. Не дождавшись ответа "Фусо", "Ямасиро" снова увеличил скорость до 15 узлов и в этот момент попал под ураганный огонь противника. Особенно тяжелые повреждения японский линкор получил с 03:55 до 04:00. "Ямасиро" ответил огнем носовой группы башен ГК, ориентируясь по далеким вспышкам залпов противника и пытаясь осуществить пристрелку при помощи осветительных снарядов, но так и не добился попаданий в американские корабли (что не мудрено). В своих показаниях Идзаки подтвердил, что носовые башни "Ямасиро" открыли огонь, как только первые вражеские снаряды стали падать вокруг него. После нескольких попаданий на "Ямасиро" взорвалась орудийная башня ГК №4 (вероятно, это произошло в 03:55), и посредине корабля вспыхнул большой пожар: огонь бушевал от основания орудийной башни ГК № 3 до грот-мачты линкора. Американцы получили прекрасную подсветку цели, в результате их огонь стал особенно точен. Пламя пожара позволяло разглядеть с отдельных кораблей Олдендорфа такие детали "японца", как орудия противоминной батареи. Снаряды поражали флагман Нисимуры вновь и вновь. Несмотря на это, "Ямасиро" продолжал движение, следовательно, его котельные и машинные отделения практически не пострадали. Следует отметить, что во всех описаниях боя в проливе Суригао много сказано о преимуществах знаменитого тактического приема "построение палочки над Т", когда все орудия своих кораблей могут поражать противника, вынужденного действовать только носовыми башнями. Однако в конкретных условиях боя в проливе это не имело никакого значения: "Могами" к тому времени вообще имел только носовые орудийные башни, а на "Ямасиро" к этому моменту действовали носовая группа башен и башня ГК №3, сектора обстрела которой спереди ограничивала надстройка. Так что японские корабли немного теряли: продвигаясь вперед они подставляли противнику для прицеливания сравнительно небольшую площадь, а их реальная огневая мощь осталась практически неизменной. Некоторые детали боя могут быть восстановлены по описаниям его участников. С японской стороны это свидетельства "Сигурэ": "03:50. "Фусо" [в действительности - "Ямасиро"] под орудийным огнем". И несколькими минутами позже: "03:55. "Фусо" [снова ошибка в опознании] поражен и потерял ход". Но "Ямасиро" не "потерял ход", а в 03:56 повернул на запад. Вероятно, японцы пытались ввести в действие башню №3 и противоминную батарею, чтобы отогнать выходящие в атаку с севера вражеские эскадренные миноносцы. Сам "Сигурэ" находился под наиболее ожесточенным огнем в 03:58 - 04:03. На нем вышли из строя рулевое управление, гирокомпас, радио. Чуть позже Нисино дрогнул: "04:10. Наблюдаю попадания в "Могами", принял решение выйти из боя". Когда "Сигурэ" уже изменил курс на южный и дал максимальную скорость, пытаясь избежать гибели, американский снаряд, прошил его правую раковину, окончательно укрепив Нисино в правильности принятого решения.
 Картина John Hamilton, изображающая "Ямасиро" и "Сигурэ"
под огнем линии американских линкоров. Время приблизительно
03 ч 57 м.
Картина John Hamilton, изображающая "Ямасиро" и "Сигурэ"
под огнем линии американских линкоров. Время приблизительно
03 ч 57 м.
Насколько благоприятно складывалась ситуация для американцев, можно судить по лирическим отступлениям в мемуарах победителей: "Самое прекрасное зрелище, которое я когда-либо видел, - вспоминает кэптен Роланд Смут, - Изогнутые линии трассеров в темноте походили на длинную вереницу освещенных железнодорожных вагонов, бегущих по холму". Интересна также оценка Морисона: "Все это походило на военную игру в академии". Их визави в тот момент было не до лирики. Около 04:00 операторы американских радаров зафиксировали поворот японского линкора на запад, расценив это как потерю кораблем управления. Все же можно предположить, что Нисимура сманеврировал либо для ведения огня бортом, либо в попытке выйти из-под обстрела. Во всяком случае, показания Идзаки не указывают на потерю "Ямасиро" управления до самого момента гибели линкора. Что касается "Могами", то на нем к этому времени в результате попадания 203-мм снаряда в мостик погибли командир корабля кэптен Тома Рио, старший офицер, штурман, торпедный офицер, офицер связи, а также операторы внутрикорабельной связи. Командование крейсером принял артиллерийский офицер. Горящий "Могами" дал неприцельный торпедный залп в сторону противника и начал поворот на юг.
 "Пенсильвания" во главе колонны американских линкоров
"Пенсильвания" во главе колонны американских линкоров
В то время, когда японские офицеры лихорадочно пытались вывести свои корабли из-под огня, командиры и штурманы американцев, в отдельных случаях с тем же напряжением, бились над проблемами кораблевождения. Поскольку боевой курс тяжелых единиц Олдендорфа проходил аккурат перпендикулярно фарватеру пролива, колонне американских линкоров в 03:55 пришлось поворачивать вправо "всем вдруг" на противника, с курса 90 на курс 120 градусов. Спустя еще 7 минут последовал новый поворот - дополнительно на 150 градусов - на курс 270, чтобы кильватерной колонной следовать теперь на запад и снова стрелять по противнику всем бортом (теперь - левым). Для темного времени суток и боевой обстановки это был достаточно сложный маневр и не мудрено, что в запале боя командир линкора "Калифорния" Бернет понял поступившие приказы неверно. Только решительные и хладнокровные действия командира идущего рядом "Теннеси" спасли линкоры от столкновения. В 04:01 "Ямасиро" встал на новый курс 260 градусов, стреляя из всех исправных орудий правого борта. Японцам удалось добиться нескольких попаданий 5,5-дюймых снарядов в "Альберт В.Грант" (из состава вышедшей в атаку 56-й эскадры) и близких разрывов около других вражеских эсминцев. Хотя к этому времени "Ямасиро" был объят пламенем, он все еще делал 12 узлов. В 04:05 линкор стал терять скорость, что продолжалось приблизительно три минуты. Послевоенные исследования объясняют это попаданием в его правый борт торпеды, выпущенной в 03:59 эсминцем "Беннион", однако документальных подтверждений этому попаданию торпеды нет. В результате снижения скорости количество накрытий "Ямасиро" увеличилось. Неожиданно Нисимура получил отсрочку. В 04:09 Олдендорфу доложили, что корабли 56-й эскадры попали под снаряды тяжелых единиц 7-го флота, и он дал приказ прекратить огонь. Сообщение якобы пришло с "Альберта В.Гранта"", но существует мнение, что это могла быть и уловка радистов "Сигурэ" или "Ямасиро". В установившейся тишине японский флагман взял круто влево, устремившись за уже отступающим "Могами" на юг, и увеличил скорость до 16 узлов! Можно только поражаться этому открывшемуся второму дыханию. Действительно, Идзаки полагал, что линкор мог бы отступить обратно в пролив, не настигни его новые торпедные попадания.
 DD-562 "Робинсон" входил в состав 112-го дивизиона 56-й
эскадры эсминцев
DD-562 "Робинсон" входил в состав 112-го дивизиона 56-й
эскадры эсминцев
Сумей флагман Нисимуры выйти за пределы дальности действия американских РЛС, он мог бы встретить отряд вице-адмирала Симы. Тот в момент апогея артиллерийского боя на большой скорости шел по проливу Суригао и находился всего в 10 минутах хода от северного выхода из пролива. Согласно показаниям Идзаки, Нисимура предпринял попытку вывести корабль из боя, повернув к югу, но в этот момент (04:11:50) "Ямасиро" получил очередное торпедное попадание, пришедшееся в машинное отделение правого борта. Затем еще одна торпеда угодила в тот же борт, чуть ближе к корме (два последних торпедных попадания исследователи относят на счет эсминца "Ньюкомб"). Теперь машины окончательно остановились, "Ямасиро" стал быстро терять скорость и начал медленно, но неотвратимо крениться. Интересно, что не осталось однозначных сведений о направлении крена линкора, окончившегося его опрокидыванием. Наиболее авторитетные американские источники склоняются к тому, что опрокидывание "Ямасиро", несмотря на то, что две последние торпеды поразили его правый борт, произошло через левый борт. Когда крен "Ямасиро" достиг 45°, контр-адмирал Синода неохотно дал приказ экипажу оставить судно. Люди пытались покинуть обреченного гиганта, но распоряжение явно опоздало. Всего через две минуты (в 04:19 по обобщенным американским данным) огромный корабль резко опрокинулся и стремительно ушел на дно кормой вперед. С флагманом Соединения "С" погибли адмиралы Нисимура и Синода, а также подавляющее большинство из 1400 человек экипажа... Среди оставшихся в живых был лейтенант Идзаки Сато, сумевший покинуть мостик буквально в последний момент. Хотя впоследствии Идзаки показал, что после гибели корабля на поверхности осталось большое число людей, только он, еще один офицер и восемь старшин и матросов пережили "Ямасиро", будучи подобранными американским эсминцем. Они возвратились в Японию из плена в декабре 1945 г. На "Теннеси" операторы радиолокаторов зафиксировали уменьшение отметки цели и ее исчезновение с экрана в 04:20. Так как дистанция до противника не превышала практическую досягаемость радара, последовал вывод о потоплении вражеского корабля в точке 10° 22.2'М, 125°21.3'Е. В 05:57 эскадренный миноносец "Клакстон" принял из воды десять членов экипажа "Ямасиро" в точке с приблизительными координатами 10° 20' N, 125° 23' Е. Позиция эсминца в момент спасения Идзаки и других соответствует времени, прошедшему с момента гибели линкора, а так же скорости и направлению течения в проливе, что служит еще одним доказательством гибели "Ямасиро" в бою у северного выхода из пролива, и соответственно "Фусо" - в результате взрыва в самом проливе. Когда флагманский линкор пошел ко дну, из кораблей Соединения "С" на плаву оставались только "Могами", "Асагумо" и "Сигурэ". "Митисио" около 03:40 добили торпеда и артиллерийский огонь появившегося из темноты эсминца "Хатчинс". Среди немногих спасшихся был командир "Митисио" коммандер Танака Томо, командир 4-го ДНЭМ Такахаси разделил судьбу эсминца. Оставшийся без носовой оконечности "Асагумо" мог дать только 9 узлов, но, тем не менее, пытался поспеть за своими товарищами, отступающими на юг. В то время когда остатки Соединения "С" предстали перед орудиями американских линкоров, Второе Ударное Соединение шло по проливу Суригао по следам Нисимуры. В 04:18, когда "Нати" и "Асигара" прошли мимо пылающих частей разрушенного "Фусо", Сима наконец счел возможным радировать Нисимуре: "Мы достигли места сражения". Увы, было слишком поздно! В этот момент "Ямасиро" как раз начал переворачиваться, "Сигурэ" пытался прорваться на юг, а "Могами" хромал вслед за эсминцем в огне и почти что без управления. Вскоре с "Нати" прямо по курсу обнаружили горящий корабль, верно опознанный как "Могами", но ошибочно признанный не имеющим хода. Именно в этот момент (в 04:20) радар флагманского "Нати" дал отметки, которые Сима счел вражескими кораблями (возможно, это были о-ва Хайбьюсон). Японский адмирал приказал крейсерам поворачивать вправо и выпустить торпеды, а эскадренным миноносцам продолжать движение на север. В 04:23 "Нати" и "Асигара", практически одновременно с поворотом на курс 90 градусов, начали пускать торпеды (по четыре с каждого крейсера) из торпедных аппаратов левого борта, маневрируя при этом так, чтобы избежать подсветки себя пожаром на "Могами". Однако, отдавая приказ на маневр, штаб Соединения неверно оценил состояние "Могами". Тот не стоял на месте, а двигался к югу со скоростью около 8 узлов. В результате этого промаха в 04:30 флагманский крейсер "Нати" ударил своей левой скулой в правый борт "Могами" в районе орудийной башни №1. После последовавших мегафонных переговоров между мостиками крейсера были разведены. Повреждения "Нати" оказались не слишком серьезными, однако неприятными и вполне достаточными для того, чтобы Сима принял совершенно правильное решение отозвать идущие на север эсминцы, собрать все свои корабли и как можно скорее ретироваться из пролива на юг.
 Эскадренный миноносец "Хацусимо", входивший в состав Второго
Ударного соединения (фотография 1939 года)
Эскадренный миноносец "Хацусимо", входивший в состав Второго
Ударного соединения (фотография 1939 года)
Известно, что кораблям Второго Ударного Соединения, связанным навигационной аварией флагмана, потребовалось около получаса для того, чтобы начать движение на юг. Направь Олдендорф свои эсминцы в погоню за отступающими японцами сразу же после гибели "Ямасиро", вероятно, он смог бы записать на свой счет минимум два тяжелых оейсера. Однако американский адмирал не сумел оперативно среагировать на представившуюся ему возможность; по некоторым источникам Олдендорфу понадобилось это время для предупреждения своих торпедных катеров о вводе американских кораблей в пролив. С другой стороны, пауза, которую получил и в полной мере использовал вице-адмирал Сима, подтверждает наличие теоретической возможности отрыва от американцев линкора "Ямасиро", не настигни его две последние торпеды. Между тем в 05:06 все корабли Второго Ударного Соединения уже следовали на юг. Вслед за ними хромали "Могами", "Сигурэ" и "Асагумо", причем последний все больше отставал из-за своей малой скорости. Сима смог увести свои тяжелые крейсера и три из четырех остававшихся при нем эсминцев вначале в бухту Корон (о-ва Каламиан), а затем в Манилу. Этот переход не суждено было завершить "Сирануи". Когда 26-го числа корабли 16-й ДКР вели свой последний бой с американскими самолетами, кэптен Иноуэ Йосио, командир 18-го ДНЭМ, получил приказ следовать в район боя для помощи терпящим бедствие. Иноуэ вышел на "Сирануи" из бухты Корон и к утру 27 октября его корабль вел поиск в море Сибуян. В этот момент "Сирануи" обнаружили атаковали самолеты TF 77. Члены экипажа эсминца "Хаясимо" (из состава Центральной группы), разрушенногo в ходе отступления после боя у о. Самар и сидевшего неподалеку на мели у о. Семирара, впоследствии засвидетельствовали, что "Сирануи" на их глазах потопила вражеская авиация. Высланные к "Сирануи" спасательные команды не смогли найти ни одного моряка. В числе погибших оказались кэптен Иноуэ и командир эсминца лейтенант-коммандер Ара Тэисабуру. Поврежденный "Абукума" на сутки укрылся в бухте Дапитан на севере Минданао. Экипаж справился с пробоиной, но утром 27-го числа крейсер (кстати, ветеран рейда на Пирл-Харбор) у южного берега о. Негрос потопили американские армейские бомбардировщики. "Сигурэ" 27 октября достиг Брунея, а вот "Асагумо" и "Могами" спастись не удалось. Первый потопили орудийным огнем корабли Олдендорфа, начавшие прочесывать пролив (время гибели 07:21, координаты 10° 04' N, 125° 21' Е). Американцы подобрали из воды и пленили три десятка человек с "Асагумо", в числе которых оказался и его командир коммандер Сибаяма Кадзуо. На потопление "Могами" самолеты и корабли 7-го флота потратили целых полдня. В итоге крейсер в 13:07 затопили сами японцы (добит торпедой эсминца "Акэбоно" после снятия около 700 человек экипажа). Кстати, в 05:10 "Могами" проследовал мимо горящих частей линкора "Фусо". Крейсера Олдендорфа "Могами" не догнали и, достигнув южного выхода из пролива Суригао, обнаружили лишь обломки и пятна топлива на воде. Крейсер "Нати" бросил якорь в Манильской бухте 28 октября, а 5 ноября погиб там же под ударами американской авиации. Еще через неделю под вражескими бомбами на дно бухты легли "Акэбоно" и "Хацухару", и только единственный из эсминцев Второго Ударного Соединения - "Хацусимо", имея на борту вице-адмирала Сима, вырвался из Манилы в Лингга 13 ноября. Таким образом, к завершению сражения за Филиппины из первоначального состава эскадр Сима и Нисимура в строю остались только "Асигара", "Хацусимо" и "Сигурэ". Олдендорфу победа обошлась в один потопленный и несколько (3 или 4) поврежденных ТКА. Кроме катеров, сильно пострадал эсминец "Альберт В.Грант" (его экипаж потерял убитыми и ранеными 129 человек - львиная доля американских потерь в бою). Причем наибольшие повреждения последнему, вероятнее всего, нанес "дружественный" огонь. Вице-адмирал Сима пережил свой флагман, оказавшись во время последнего боя "Нати" на берегу. Когда 10 ноября в Манилу пришел "Сигурэ", лейтенант-коммандер Нисино лично доложил вице-адмиралу и его штабу о ходе и результатах ночного боя в проливе Суригао. Так и родилась первая официальная японская версия, согласно которой Соединение "С" потеряло флагманский линкор в проливе в результате внутреннего взрыва, а однотипный "Фусо" - в бою с кораблями 7-го флота США. Детальный боевой отчет о последнем походе "Могами" появился лишь в декабре 1944 г., но в тот момент японским адмиралам было уже не до выяснения истинных обстоятельств последнего боя Нисимуры. Только возвращение в Японию из плена (уже после окончания войны) лейтенанта Идзаки и его товарищей стало толчком к воссозданию подлинной картины трагедии в проливе Суригао. Увы, верное изложение событий, появившись в качестве второй версии, так и не стало единственной (как было показано выше - вплоть до нашего времени).
КАТАСТРОФА "ФУСО"

Любопытной и загадочной историей, связанной с боем в проливе Суригао, является гибель "Фусо". Огромный корабль с экипажем в полторы тысячи человек покинул строй соединения и сперва затерялся в непроглядной темноте тропической ночи, а затем погиб со всеми находившимися на борту. На первый взгляд в гибели "Фусо" нет ничего необычного. Линейные корабли, имевшие на борту очень значительное количество взрывчатых веществ, нередко погибали, салютуя на прощанье чудовищным "фейерверком". Причем неоднократно мощнейшим внутренним взрывом сопровождалось опрокидывание. В ходе Второй мировой войны вызванные самыми различными причинами внутренние взрывы, кроме "Фусо", уничтожили (или сопровождали гибель) английские "Худ" и "Бархэм", американскую "Аризону", японские "Муцу", "Конго" и "Ямато", итальянскую "Рому", советский "Марат". Вместе с тем, даже беглый взгляд на описания гибели "Фусо" выделяет этот случай из ряда подобных катастроф. Когда после войны американская Военно-морская академия провела доскональный анализ маневров и действий японских кораблей в бою в проливе Суригао, в своих выводах она отметила: "Никакая достоверная информация о судьбе "Фусо" не доступна". Тем не менее, собранные академией материалы содержат хотя и отрывистые, но очень ценные сведения о последних часах японского линкора. При этом выделяется целый ряд неясных моментов. 1. Известно, что корпус корабля в результате взрыва был разорван на две части. Где именно находилось место разрыва? 2. Все источники описывают сильные пожары на обеих частях "Фусо" после разрыва корпуса. Имелся ли пожар на борту линкора до взрыва, какой характер он имел и мог ли взрыв стать его прямым последствием? 3. Почему расстояние между дрейфующими носовой и кормовой частями корпуса "Фусо" к моменту потопления носовой секции (т.е. через 1 час 15 минут после взрыва) составляло целую милю? 4. Известно, что части "Фусо" длительное время сохраняли плавучесть. Почему с корабля никто не спасся? Итак, в 03:09 "Фусо" был торпедирован американским эсминцем "Мелвин". Линкор сразу же накренился на правый борт, потерял скорость, покинул строй, затем, получасом позже, взорвался, разломившись на две части. Это общеизвестное, но слишком краткое описание катастрофы корабля. Поэтому стоит рассмотреть детали.

Всего через две минуты после торпедирования скорость линкора упала до 12 узлов. Очевидно, в это время контр-адмирал Бан решил вывести корабль из колонны, повернув на курс 30 градусов, поскольку "Могами" оставил линейный корабль справа от себя в 03:13. С типичным японским упорством "Фусо" первоначально продолжал продвигаться с остальной частью Соединения "С", находясь справа от колонны Нисимуры. Но в 03:18 "Фусо" начал поворот на восток, все еще делая около 10 узлов. Вероятно, контр-адмирал Бан получил тревожное сообщение от командира аварийного дивизиона. По всей видимости, в результате торпедного попадания возник и начал распространяться пожар, а вследствие затопления отсеков увеличивался крен на правый борт. Пожар или затопление отсеков (либо и то, и другое) грозили выйти из-под контроля. Достоверность этого предположения, по всей видимости, никогда не будет проверена, но именно такая ситуация могла повлечь за собой решение командира "Фусо" изменить курс на обратный и покинуть поле боя. В 03:23 линкор повернул еще на 90 градусов и на малой скорости пошел курсом 190 градусов. В этот момент "Фусо" наблюдали прошедшие поблизости, незамеченные с линкора, торпедные катера РТ-495 и РТ-524. По неизвестной причине они отказались от атаки (к большому огорчению аналитиков американской военной академии, которые так и не смогли понять, почему правильно идентифицированный вражеский линейный корабль не был атакован). Хотя большинство источников описывает перемещение "Фусо" как дрейф (течение в проливе Суригао действительно следует с северо-востока на юго-запад), вовсе неочевидно, что на самом деле корабль в этот момент уже остался без хода. Как отметили операторы американских радаров, "Фусо" "медленно следовал" по проливу на юг. Весьма возможно он еще мог давать небольшой ход, в то время как его аварийные партии пытались взять ситуацию под контроль. Но катастрофа уже была неотвратима. По всей видимости, пожары на "японце" начали вызывать взрывы, поскольку в 03:38 американский эсминец "Хатчинс" (находившейся, примерно в 14.000 ярдах от "Фусо") доложил о трех слышимых отдаленных взрывах: "двух слабых и одном громком".
 Внешний вид линкора "Фусо" (после модернизации)
Внешний вид линкора "Фусо" (после модернизации)
Внезапно, в 03:45 раздался мощный взрыв с выбросом огромного форса пламени, который, казалось, заполнил весь пролив, и был отмечен даже на линейном корабле "Миссисипи", где наблюдали "огонь, достигающий верхушек стеньг". Вероятно в этот момент, но уж точно до 03:50 (когда на месте одной радарной отметки от "Фусо" появилось две), японский линкор разорвало надвое. Так как он был поражен торпедой в середину корпуса, а затем разломился на две части, естественно заключить, что произошел взрыв погребов башни ГК №3 или №4 (а возможно, и обеих). Правомерно также предположить, что и место разлома корпуса находится в районе расположения этих погребов, то есть образовавшиеся части корабля были если не одинаковыми, то, по крайней мере, сопоставимыми по размерам. Однако эти очевидные посылки в свое время встретили возражения в самых авторитетных кругах. Американские специалисты в области кораблестроения, исследовавшие вопрос после войны, пришли к заключению о практической невозможности разлома "Фусо" на две близкие по размерам части (т.е. посередине корпуса и в пределах цитадели). В качестве аргумента они привели взрыв линкора "Аризона", в результате которого, несмотря на мощную детонацию носовых погребов, разлома корпуса в области, защищенной броневым поясом, не произошло. В официальном ответе на запрос Академии, который подписал руководитель Бюро по Кораблям (Bureau of Ships) контр-адмирал Альберт Г.Мумма, была выдвинута версия потери линкором "Фусо" в результате взрыва только носовой оконечности, то есть разрыва корпуса в районе носовой группы башен. В качестве иллюстрации приводилась картина гибели крейсера "Хелена", носовая часть которого оставалась на плаву в течение более двенадцати часов. Представляется, что Бюро по Кораблям, руководствовавшееся исключительно американскими военными материалами и боевым опытом, и в момент вынесения заключения еще не имевшее в своем распоряжении всех данных о фактах гибели линкоров во Второй мировой войне, было сильно ограничено в объемах сведений, на которые оно могло бы опереться. Сравнение гибели "Фусо" со взрывом "Аризоны" представляется несколько натянутым, хотя бы из-за существенной разницы в компоновке: американский линкор имел башни главного калибра (а значит, и погреба) только в оконечностях; "японец" имел две башни ГК в центральной части корпуса, их погреба примыкали непосредственно к машинным и котельным отделениям (отсекам большого объема). Опыт Второй мировой показал, что линейные корабли в результате разрывов корпуса в большинстве случаев немедленно шли на дно. Так, у гибнущего "Худа" корма погрузилась сразу, а нос оставался на поверхности всего девяносто секунд. Корма итальянского линкора "Рома", разорванного в районе фок-мачты взрывом погреба башни №2, некоторое время оставалась на поверхности, остатки носа ушли на дно почти сразу. Наконец, после взрыва кормовых погребов "Муцу", разломившего линкор у грот-мачты, носовая часть корабля сразу же опрокинулась и пошла ко дну, а перевернутая вверх килем корма оставалась на плаву до следующего дня. Все это случаи разрывов линкоров на две соизмеримые, хоть и не равные части. Похоже, "Фусо" выпадает из этого ряда. Многочисленные свидетельства с обеих сторон подтверждают, что обе части японского линкора долгое время оставались на плаву, причем, не опрокидываясь. Последний момент особенно поразителен, так как известно, что на японских кораблях традиционно имелись проблемы с "верхним" весом, а носовые надстройки линкоров (получившие у американцев прозвище "пагоды") являлись сооружениями, очень высокими и громоздкими. Части линкора не могли перевернуться, если бы они сели на дно, пусть даже частично (глубина в проливе Суригао местами позволяет всерьез рассматривать такие предположения). Но тогда они не смогли бы и дрейфовать!

Версию с отрывом носовой оконечности "Фусо" (разлом корпуса в районе носовой группы башен) легко отклонить, ознакомившись с последствиями взрыва линкора "Марат" 23 сентября 1941 г. в гавани Кронштадта. "Марат", сопоставимый с "Фусо" как по возрасту, так и (конечно, с весьма серьезной натяжкой) по компоновке, в результате детонации погреба башни ГК №1 полностью лишился носовой надстройки, да и, практически, всей носовой оконечности как таковой. То, что осталось от носа советского линкора, оторвись эта часть от остального корпуса, не продержалось бы на поверхности и нескольких минут. Вновь обратимся к свидетельствам очевидцев. Эсминец "Касуми" из отряда адмирала Сима в 03:43, когда Второе Ударное Соединение на 28 узлах следовало через пролив, отметил: "Прямо по курсу обнаружены горящие корабли. Орудийный огонь [соединения Нисимуры] ...указывает на идущий впереди бой". В это время (03:43) "Ямасиро", "Могами", и "Сигурэ" продолжали движение на север, "Асагумо" полз за ними, "Ямагумо" и "Митисио" уже затонули. Если "Фусо" в 03:45 взорвался и "был охвачен огнем", как сообщили американские торпедные катера, то линкор лучше всего подходит под описание "Касуми": "горящие корабли", наблюдаемые впереди по курсу. Необходимо отметить, что большинство данных по хронометражу боя обобщены с американских источников, так что время, указанное "Касуми" (03:43), может оказаться более точной отметкой момента взрыва "Фусо". "Касуми" и другие корабли Второго Ударного Соединения продолжали движение и в 04:10 повернули налево, чтобы обойти горящие остовы во избежание столкновения. Затем на "Касуми" отмечают: "04:18. Готовность к одновременной торпедной атаке и открытию орудийного огня. Три горящих корабля в пределах диапазона видимости. Наблюдаются вражеские красные трассирующие снаряды с направления от о.Хайбьюсон. Также замечены вспышки орудийного огня очевидно дружественных единиц...". Время этой записи в вахтенном журнале критическое. В 04:18 "Ямасиро" начинает переворачиваться, "Сигурэ" возглавляет отступление в пролив, "Могами" также движется на юг. "Тремя горящими кораблями" могут быть только "Могами" и две части "Фусо". Американские радары начали прослеживать раздвоение радарной отметки "Фусо" после 03:50. Пожар на "Могами" в этот момент документально подтверждается. В тоже время, горение "Асагумо" маловероятно, "Сигурэ" не горел, а "Ямасиро" уже затонул. В интервью, которое адмирал Сима дал после войны, он сообщил, что горевшие корабли, встреченные его отрядом в проливе (то есть части "Фусо"), пылали "подобно огню сталелитейного завода". На послевоенном допросе командир минно-торпедной боевой части крейсера "Нати", Мори Кикути, добавил следующие детали. Мори: "...хотя дождь прекратился, из-за плохой видимости мы не могли определить наше положение. Затем мы обнаружили два пожара... два горевших корабля, очень большие корабли... мы также видели плотную дымовую завесу с обеих сторон этого горения...". Вопрос: "На каком расстоянии от вас находились горящие корабли во время их обнаружения?". Мори: "Когда мы впервые увидели пожар, я полагал, что это было приблизительно в 20 тысячах метров от нас. Мы знали, что горели японские корабли, но не подходили к ним, прошли мимо...". Вопрос: "Вы прошли мимо горящих кораблей и продолжали движение? Вы знали, что это за корабли, мимо которых вы проходили?". Мори: "Мы полагали, что это были два линейных корабля, но когда мы прибыли в Манилу, мы слышали, что это был один линейный корабль - "Ямасиро" и три эскадренных миноносца близко друг к другу вместо двух линейных кораблей...". Показания Мори нуждаются в комментариях. Во-первых, указание на горение частей якобы "Ямасиро" основано на знании Мори сути доклада командира "Сигурэ" Нисино вице-адмиралу Симе, согласно которому флагманский корабль Нисимуры погиб от взрыва в проливе. Во-вторых, одновременное горение трех эсминцев, это, по-видимому, домыслы или Мори, или Нисино, являющиеся следствием факта гибели в бою трех из четырех эсминцев Нисимуры. То есть надо иметь в виду, что Мори и другие на мостиках кораблей отряда Второго Ударного Соединения наблюдали горевшие части "Фусо". В-третьих, первоначальная уверенность штаба Симы в том, что они проходят мимо двух японских линейных кораблей предполагает, что на этот момент части "Фусо" не были перевернуты килем вверх и имели достаточное количество надстроек (для идентификации как японские линкоры); были приблизительно равны по своим размерам и достаточно удалены друг от друга (чтобы выглядеть как два погибавших корабля). Где же должен был произойти взрыв "Фусо", чтобы последствия его оказались именно такими? Приводится признать, что фактическая точка разрыва "Фусо" остается неизвестной. "Разорванный пополам" или "две горящие части" может означать все, что угодно. Если взорвались погреба посредине корабля, вероятнее всего "Фусо" разорвало в районе взрыва. Огромная громоздкая "пагода" в результате напряжения конструкции могла обрушиться почти вся или утратить значительную верхнюю часть, что явно стабилизировало бы носовую секцию, выравнивая ее дифферент. Любые подробности остались скрытыми от сторонних наблюдателей интенсивным горением разлившейся нефти. К сожалению, эти гипотезы могут быть подтверждены или опровергнуты только детальным обследованием покоящегося на дне корпуса.

В свою очередь, знание места разрывa корпуса позволило бы реконструировать источник взрыва. Простая констатация взрыва погребов башен №3 или №4 дает немного. Например, хотя части "Фусо" обычно описываются как "объятые огнем", не ясно, насколько силен был пожар на "Фусо" до взрыва. Сообщение "Могами", описывающее торпедирование линкора и момент, когда корабль покинул колонну, вообще не упоминает ни о каком пожаре. С эсминца "Сигурэ", находившегося в 03:30 всего в 5 километрах от "Фусо", линкор так и не разглядели. Это также свидетельствует о том, что всего за 15 минут до взрыва снаружи корпуса "Фусо" пламени не наблюдалось. Кроме того, косвенное свидетельство того, что пожар не был виден первоначально, имеется с американской стороны. Торпедные катера РТ-489, РТ-492 и РТ-495, приблизившиеся к "Фусо" в 03:45, сообщили, что линкор "внезапно" был объят огнем и взорвался. То есть, прежде "японец" не был в огне? Известно, что комиссия, созданная английским Адмиралтейством для расследования обстоятельств гибели линкора "Бархэм", пришла к выводу, что торпедные попадания начали пожар погребов четырехдюймовых снарядов, который затем, еще до окончания опрокидывания линкора, вызвал пожар и взрыв кормовых погребов главного калибра. По аналогии можно предположить, что торпедные попадания в "Фусо" первоначально явились причиной пожара только в погребах противоминной батареи правого борта, и целый час ушел на распространение огня до погребов главного калибра. Однако горение "Фусо" в течение целого часа между моментом торпедного попадания и моментом взрыва - всего лишь версия. Вместо этого, можно предположить, что "Фусо" покинул строй со значительным затоплением и потерей мощности, а в 03:38 напоролся на американскую торпеду (одну из тех, что в избытке пересекали воды пролива в ту ночь) и взорвался. Такая гипотеза имеет право на существование, но и ее проверить невозможно. "Конго" и "Ямато" опрокидывались от поступления забортной воды и только потом взрывались. Этот сценарий явно не подходит к "Фусо", так как его части остались на плаву. Сегодня ответов на эти вопросы нет. Уверенно можно утверждать лишь то, что "Фусо" взорвался и был разорван в интервале 03:38 - 03:45. Самым труднообъяснимым фактом, связанным с гибелью линкора "Фусо", является, на мой взгляд, то расстояние, на которое его дрейфующая кормовая часть обогнала носовую. К моменту взрыва линкор шел курсом на юг, по направлению проходящего по проливу течения. Судя по отметкам на американских радарах, уже к 04:00 кормовая секция обогнала носовую, пройдя по проливу дальше на, приблизительно, 2000 ярдов и несколько склонилась к юго-востоку. Впоследствии эта дистанция сохранялась до момента потопления носовой части "Фусо" крейсерами Олдендорфа в 05:35. По этому поводу в заключении Бюро по Кораблям сказано, что "одного только взрыва [линкора "Фусо"] не было достаточно для разделения частей на, приблизительно, 2000 ярдов, на что указывают данные радара, поэтому корма, должно быть, в течение заметного времени после взрыва имела ход". Это "заметное время", исходя из хронологии катастрофы, может быть оценено в 10 - 15 минут. Могло ли такое случиться? Достаточных данных для однозначного ответа на этот вопрос не существует. Известно, что почти сразу после взрыва "Марата", который в момент поражения находился без движения, предпринимались попытки развести пары в двух котельных отделениях. Этого не удалось сделать лишь из-за поступления вместе с мазутом через форсунки впрыска забортной воды. Но "Фусо" в момент взрыва, скорее всего, был на ходу. Можно предположить два основных сценария развития событий, которые привели к возникновению дистанции между секциями линкора.
 Японские линкоры "Ямасиро", "Фусо" и "Харуна". Вторая половина
30-х гг.
Японские линкоры "Ямасиро", "Фусо" и "Харуна". Вторая половина
30-х гг.
Первый. Кормовая секция на некоторое время действительно сохранила ход, то есть в рабочем состоянии осталось какое-то количество котлов и машин. В результате разрыва линкора корма оказалась отделена от участка корпуса, первоначально пораженного торпедами и, если поступление забортной воды в отсеки кормовой секции какое-то время удавалось сдерживать, это и позволило ей двигаться "своим" ходом те самые 10 минут. Затем, когда по тем или иным причинам машины встали, корма дрейфовала дальше, также как и носовая секция, и расстояние между ними больше не изменялось. В этом случае, склонение кормовой части к юго-востоку можно объяснить попыткой остающихся на ней людей приткнуть остов к восточному берегу пролива. Такое развитие событий являет очередной пример храбрости и упорства, продемонстрированный японскими моряками в тяжелейшей ситуации. Второй. Не корма за первые 10 минут после взрыва вырвалась вперед, а носовая секция по каким-то причинам оставалась на месте. Например, если носовая часть после взрыва сохранила свою громоздкую и высокую надстройку, то сразу после разрыва корпуса носовая секция должна была сильно просесть в направлении центральной части. При этом "обломок" (не менее 80 метров длиной) на какое-то время своим местом разлома могла упереться в дно - диапазон глубин в проливе позволяет сделать такое предположение. Или резкое увеличение объема погруженной под весом "пагоды" части каким-то иным образом повлияло на скорость дрейфа носовой секции, снижая таковую. Если первоначально носовая надстройка "Фусо" осталась целой, а, как известно, нос после взрыва не перевернулся, это почти наверняка означает, что напряжения конструкции рано или поздно должны были отломить от "пагоды" существенный фрагмент "верхушки". Когда это произошло (например, через 10 минут после взрыва), носовая часть должна была (могла) подвсплыть, уменьшив свой дифферент. Это позволило бы ей или оторваться от дна и начать дрейф, или увеличить его скорость, хотя бы за счет увеличения парусности конструкции. Так или иначе, остается документально подтвержденным фактом то, что в 03:48 корма "Фусо" находилась на пеленге 293° и расстоянии 7700 ярдов от северного конца острова Канихэн (Kanihaan), в то время как нос корабля был на пеленге 291° и расстоянии 8000 ярдов от того же самого места. Когда же в 04:00 обе секции дрейфовали на юг со скоростью в 2,5 узла, дистанция между ними составляла 2000 ярдов. В течение часа, следовавшего за взрывом, оставшиеся в живых члены экипажа "Фусо", отчаянно боролись за свою жизнь. Судя по всему, после катастрофы на борту двух частей линкора оставалось большое количество людей. Около 04:10 мимо них в пределах видимости прошли "Нати" и "Асигара". Части "Фусо" продолжали дрейфовать на юг. Возможно, люди ожидали рассвета, чтобы решиться преодолеть водное пространство, отделяющее остовы от ближайшего берега. Около 05:00 поблизости оказался покалеченный "Асагумо". Но именно в это время японцев настигли преследователи-американцы. Они начали погоню за кораблями Нисимуры в 04:32, когда Олдендорф повел крейсера левого фланга на юг. Вскоре на расстоянии в 14 миль американцы обнаружили отступающего противника ("Нати", "Асигара" и "Могами"). Когда в 05:18 крейсера Олдендорфа приблизились на дистанцию стрельбы, а отходящие японские корабли поравнялись с дрейфующими частями "Фусо", начало рассветать. Сима прибавил скорости, но "Могами", а тем более "Асагумо" не имели такой возможности. В 05:31 "Луисвилль", "Портленд" и "Денвер" открыли огонь. Флагманский "Луисвилль" в качестве цели выбрал находящуюся в 10 милях носовую секцию "Фусо", зафиксировав, что цель была большая, но неподвижная и охваченная сильным пожаром. В это же время мателоты Олдендорфа весьма эффективно обстреливали "Могами" и "Асагумо". "Луисвилль" уже в 05:33 перенес огонь на "Могами": восемнадцати выстрелов хватило для того, чтобы нос "Фусо" начал погружаться и вскоре затонул в точке 10° 09' N, 125° 24' Е. Эсминец "Кони" сообщил, что цель исчезла с экрана радара в 05:36:30, "Клакстон" назвал более позднее время - 05:40. Будто бы удовлетворившись результатом, Олдендорф в 05:37 начал перегруппировывать свои корабли, дав тем самым возможность "Могами" и "Асагумо" оторваться от погони. Впрочем, охота возобновилась менее чем через час. Немного к юго-востоку дрейфовала объятая пламенем кормовая часть погибшего линкора. Горела нефть, растекшаяся из разорванных танков. Представляется, что часть экипажа "Фусо" в это время все еще оставалась на его корме, и начала покидать остов только с наступлением утра. Весьма возможно, оставшиеся в живых на корме видели расстреливаемый, а затем тонущий нос, и именно поэтому они, наконец, решили покинуть обломки линкора. Когда в 06:30 над проливом Суригао взошло солнце, "Асагумо" оказался вблизи горящей кормы "Фусо", неясно, то ли для совместной обороны, то ли в попытке спасти оставшихся в живых. Именно в это время торпедный катер РТ-323 "обнаружил в 2,5 милях эскадренный миноносец, стоящий около большого корабля, на котором бушевал пожар". Примерно в это время корма "Фусо" начала тонуть, и если "Асагумо" действительно принимал на борт уцелевших с линкора, появление РТ-323 вынудило его прервать эти попытки. Покалеченному эсминцу не удалось отразить атаку, и в 06:46 РТ-323 попал торпедой в корму "японца", что окончательно вывело "Асагумо" из строя. Около 06:40 горящая кормовая часть "Фусо" наконец пошла на дно. Хотя никто на американских кораблях визуально не наблюдал ее затопления, приблизительное время погружения может быть установлено сверкой хронометража наблюдений американских торпедных катеров, которые проходили район в различное время. Корма все еще оставалась на плаву, когда РТ-323 выходил в атаку в 06:30, но в 06:52, когда другие катера прошли в 700 ярдах мимо о.Канихэн, ее уже не было на поверхности. "Хотя огонь на поверхности воды горел очень сильно... там не было никакого корабля", - отметили они. Очевидно кормовая часть "Фусо" только что погрузилась в точке 10° 08' N, 125° 24.6' Е, к юго-востоку от места затопления носа линкора, и через час после него. На основании вышеизложенного наиболее вероятная картина гибели линейного корабля (собранная из японских и американских отрывочных сведений американцем А.Д. Невиттом) выглядит следующим образом. В 03:09 "Фусо" был торпедирован в середину корпуса в правый борт. Попадания вызвали умеренный, но стойкий внутренний пожар и затопление части котельных (или машинных) отделений. Линкор накренился на правый борт и потерял половину скорости. Несколько минут спустя командир "Фусо" контрадмирал Бан Масами узнал, что ситуация вышла из-под контроля. Пожар или затопление (возможно, обе эти причины) начали распространяться от места поражения по соседним отсекам. В 03:38 огонь начал взрывать погреба 5,5-дюймовых снарядов и, в пределах нескольких минут, произошел взрыв погреба орудийной башни №3. В 03:45 "Фусо" разорвало на две части в районе этой башни с сохранением кормовой надстройки. Под тяжестью "пагоды" нос задрался форштевнем вверх. Последующие напряжения конструкций сломали и обрушили верхнюю часть носовой надстройки. Благодаря этому остаток носовой части (возможно включавший боевую рубку) несколько выровнял свой дифферент. Обе секции, просев в сторону более тяжелой центральной части, сохранили достаточно плавучести, чтобы остаться на поверхности. В течение короткого времени кормовая секция имела достаточно инерции, чтобы продолжать движение, но скоро остановилась. В качестве альтернативы рассматривается вариант развития событий, при котором "Фусо" разорвало взрывом погребов башни №4; носовая часть сохранила "пагоду". Обе половины дрейфовали на юг, объятые пламенем, подпитываемым разливающимся топливом. Нос был потоплен американцами орудийным огнем в 05:35, корма затонула вследствие поступления забортной воды сама около 06:40. Касаясь судьбы экипажа линкора, необходимо сразу же оговориться, что точное число офицеров и матросов, вышедших на нем в последний поход, неизвестно. Исходя из сопоставления с имеющимися данными по соизмеримому (но не однотипному!) линкору "Хиуга" (на октябрь 1944г.: 102 офицера и 1155 старшин и матросов), приблизительных данных о погибших с линкорами "Ямасиро" и "Конго" (соответственно 1400 и 1600 человек), можно предположить, что в последнем бою на "Фусо" находилось от 1400 до 1600 моряков. Из этого числа между 05:40 и 06:30 изувеченный остов покинуло, по имеющимся оценочным данным, около трех сотен человек, в основном - находившихся на кормовой части. Корабли Олдендорфа возобновили свое движение на юг в 06:17, а в 07:07 открыли огонь по настигнутому "Асагумо", дрейфующему в это время в точке погружения кормы линкора. На потопление японского эсминца американцы потратили 14 минут.
После гибели "Асагумо" в 07:22 с проходящего к северо-востоку
от о. Канихэн американского эсминца "Хейвуд Л.Эдварде" на
поверхности воды обнаружили две большие группы японцев.
Сообщение "Эдвардса" ясно указывает на то, что это были
обособленные группы, разделенные водным пространством. О
близком расположении около 06:00 "Асагумо" и кормовой части
"Фусо" уже говорилось выше. Все это позволяет предположить,
что оставшиеся в живых члены экипажа "Фусо" решили покинуть
кормовую секцию, когда "Асагумо" оказался рядом, а чуть
севернее американцы потопили носовую часть. Необходимо заметить,
что реальное состояние японского эсминца не позволяло проводить
какие бы то ни было спасательные операции. Тем не менее
со стороны он, безусловно, выглядел надежнее, чем обрубок
линкора, вот-вот готовый пойти ко дну.
Интересно, что и у американцев сложилось впечатление (это прослеживается по некоторым записям в вахтенных журналах), что "Асагумо" пытался спасать остатки экипажа "Фусо". Хотя в материалах допросов выловленного из воды и взятого в плен командира "Асагумо" коммандера Сибаяма Кадзуо прямо не указано на такие действия, имеются данные, что, по крайней мере, один моряк с "Фусо" какое-то время после гибели линкора был вместе с членами экипажа "Асагумо" (а возможно, попал в число 30 японцев, подобранных эсминцем "Хейвуд Л.Эдварде" на месте гибели вражеского эсминца). Старший механик "Асагумо" Исии Токичи, сообщил на допросе, что некто, "оставшийся в живых с "Фусо", находившийся вместе с ним, сказал ему, что попадание бомбы [в этот линкор] 24 октября разрушило кают-компанию и вызвало взрыв палубой ниже". Как известно, пленные японцы практически всегда отвечали на задаваемые вопросы правдиво, и нет оснований подозревать Исии в неискренности. Остается сожалеть, что допрашивавшие Исии американцы не задали ему вопросов относительно моряков с "Фусо". Кстати, названный факт является дополнительным доказательством того, что в проливе в районе о.Канихэн погиб именно линейный корабль "Фусо", а не "Ямасиро". К сожалению, не имеется ни одного другого документального свидетельства о спасении членов экипажа "Фусо". Несмотря на целенаправленные попытки спасения японцев, предпринятые эсминцем "Хейвуд Л.Эдварде", подавляющее большинство находившихся в воде людей отказались подняться на борт американского корабля. Известно, что немногие из японцев, сумевшие достичь берегов пролива, были перебиты туземцами. Таким образом, в результате взрыва линкора, его затопления, отказа от спасения (плена) и убийства аборигенами фактически весь экипаж "Фусо" погиб.
ТАЙНА АДМИРАЛА НИСИМУРЫ
История боя в проливе Суригао таит в себе еще одну загадку. Это - та причина, по которой Нисимура так настойчиво лез в расставленную ловушку. Различные исследователи темы приходят к следующим основным версиям ответа на этот вопрос. Самурайская твердолобость (или то же самое, но с позитивной оценкой - непоколебимая верность полученному приказу) японского адмирала; его граничащая с беспечностью уверенность в возможность форсирования пролива без существенного противодействия противника; поиск личной смерти в связи с якобы имевшей место гибелью сына, произошедшей накануне сражения. Все эти версии представляются поверхностными.
 Адмирал Нисимура. Увы, но более качественного портрета ни
в литературе, ни в Интернете найти пока не удалось…
Адмирал Нисимура. Увы, но более качественного портрета ни
в литературе, ни в Интернете найти пока не удалось…
Обратите внимание, что практически все авторы исследований истории сражения при Лейте подчеркивают: сутью замысла японской стороны являлся "одновременный двухсторонний охват" сил противника. Условием выполнения задачи считалось отвлечение на север главных сил 3-го флота США - ударных авианосцев и новейших линкоров - соединением вице-адмирала Одзава. При таком развитии событий с севера в залив Лейте должен был войти Курита, а с юга - Нисимура и Сима. Но тогда представляется более логичным, чтобы обе части японского флота, производящие "двухсторонний охват" оказались сопоставимы по своему составу. В реальности соединение Куриты (5 линкоров, в т.ч. наиболее современные "Ямато", "Мусаси", 10 тяжелых и 2 легких крейсера, 15 эскадренных миноносцев) оказалось намного сильнее эскадры Нисимуры, даже усиленной отрядом вице-адмирала Симы. К тому же, необходимо помнить, что Сима был перенацелен на поддержку Нисимура, практически, в последний момент. Чересчур маленькой наковальней выглядит соединение Нисимура по сравнению с молотом сил Курита. В числе других доводов в пользу более-менее равномерного распределения сил между отрядами для "двухстороннего охвата": оно обеспечивает минимизацию потерь на переходе к месту сражения, вынуждая противника отказаться от концентрированных воздушных ударов лишь по одной из наступающих японских эскадр. Достиг же Нисимура входа в пролив Суригао без тех проблем, с которыми столкнулся Курита в море Сибуян.
 Схема подхода японских сил в сражении за залив Лейте 15-25
октября 1944 г. (из книги "Кампании войны на Тихом океане")
Схема подхода японских сил в сражении за залив Лейте 15-25
октября 1944 г. (из книги "Кампании войны на Тихом океане")
Курита пробирается через лабиринт Филиппинского архипелага в залив Лейте, выходя в Тихий океан через пролив Сан-Бернардино. Это не самый короткий путь к цели. Зато Нисимура, после выхода из пролива Балабак, пересекает море Сулу по прямой и идет к проливу Суригао, северное горло которого непосредственно выходит в залив Лейте, прямо во фланг американского плацдарма. Все описания сражения указывают, что адмирал Кинкейд "правильно распознал" направление движения группы Нисимуры. Но для этого не надо было иметь семи пядей во лбу. Линия, проведенная из точки обнаружения японских кораблей и направленная по их курсу, упирается в пролив Суригао! Еще один "географический" аспект плана "Сё-1". Одзава оттягивает силы Хэлси на север. Пролив Сан-Бернардино, через который Курита должен выводить свои силы в Тихий океан, находится севернее пролива Суригао, которым предстоит пройти Нисимуре. Таким образом, у Хэлси, надумай он вовремя вернуться для защиты плацдарма на Лейте, гораздо больше шансов перекрыть лежащий к северу пролив Сан-Бернардино, нежели более южный пролив Суригао. И этот критерий делает более логичным удар основных сил японцев через пролив Суригао. Тем не менее южным маршрутом демонстративно идет Нисимура. Обратим внимание на состав Соединения "С". Отряд Нисимура, следующий в залив Лейте прямым и очевидным путем, включает два самых старых из действующих в японском флоте линкоров, тяжелый крейсер "Могами", перестроенный в авианесущий с удалением двух кормовых башен главного калибра (но не имевший ни малейшей ценности в качестве авианесущего корабля), и четыре эсминца - минимально допустимый эскорт. Кстати, из 35 японских эскадренных миноносцев, первоначально привлеченных к участию в сражении при Лейте в соединениях Куриты, Одзавы, Нисимуры и Симы, единицы, выделенные Нисимуре, оказались одними из самых старых. Старше - только эскортировавший группу танкеров Одзавы "Акикадзэ", и пять из семи эсминцев Симы! Более того, Курита не просто выделил Нисимуре самые старые из имевшихся у него эсминцев, но при этом даже пошел на нарушение структурной организации своих миноносных сил. Так, в составе Соединения "А" остался "Новаки" из 4-го ДНЭМ, в то время как три более старых корабля этого дивизиона ушли с Нисимурой. Вместо "Новаки" в Соединение "С" включили "Сигуре", организационно подчиненный 2-му ДНЭМ, другие эсминцы 2-го дивизиона остались при Курите. Двигаясь в залив Лейте Курита свободно маневрирует, отступает под ударами вражеской авиации, вновь возобновляет движение к цели. Нисимура, не подвергаясь в это время никакому давлению со стороны противника, получив известие о том, что Курита отстает от намеченного планом операции графика достижения Лейте, не предпринимает ни малейших попыток "подгадать" время своего прибытия в залив для "одновременного двухстороннего охвата" сил вторжения.
 Схема боя в проливе Суригао
Схема боя в проливе Суригао
С позиций сегодняшнего дня можно уверенно утверждать: какая-то целеустремленная обреченность действий Нисимуры в ночном бою 24 - 25 октября 1944 г. не знает аналогов в истории боевых операций ВМС Японии во Второй мировой войне. Наоборот, японским адмиралам с первого ее дня была присуща чрезмерная осторожность! Флотоводцы Страны восходящего солнца, в силу очевидных экономических причин вынужденные постоянно помнить о необходимости беречь свои корабли, боевые припасы и топливо, то и дело своей излишней нерешительностью буквально спасали прижатого к стенке противника. Вице-адмирал Нагумо Тюити практически не доводит до логического конца удар по Пирл-Харбору. Японцы проигрывают по очкам сражение у Восточных Соломоновых островов и "не дожимают" противника при Санта-Крус. После чего Нагумо, наконец, смещается с должности командующего авианосными силами - у Ямамото лопнуло терпение. Вице-адмирал Микава Гунъити, разгромивший врага в бою у острова Саво, уходит, оставляя за кормой беззащитные американские транспорты. Два ночных боя трехдневного ноябрьского (1942) сражения за Гуадалканал могли быть выиграны японцами только при условии их более агрессивной тактики, подкрепленной волей к победе. Однако вице-адмиралы Абэ Хироаки и Кондо Нобутаке не продемонстрировали ни того, ни другого. В ноябре 1943 г. в заливе Императрицы Августы контр-адмирал Омори Сентаро имел возможности если и не победить противника (при практически равных силах положение американцев было предпочтительнее), то, по крайней мере, не провести бой так позорно. Всех переплюнул вице-адмирал Хосогая Босиро, имевший в бою у Командорских островов в марте 1943 г. отличные возможности для уничтожения американской эскадры, но осторожничавший так, что поневоле задумаешься: а не струсил ли? Сам Курита, растерявшийся под отчаянным (в прямом смысле этого слова) напором американцев в бою у острова Самар, "отличился" еще при Мидуэе, командуя 7-й ДКР. Маневрирование его крейсеров при попытке выполнить приказ и обстрелять злосчастный атолл закончилось столкновением "Могами" и "Микумы", который впоследствии погиб под ударами американской авиации. Из приведенного ряда выпадают, пожалуй, лишь контр-адмиралы Ямагути Томон, Танака Райдзо, вице-адмирал Одзава Юсабуро. Однако они так и не получили практических возможностей превзойти вице-адмирала Нисимуру в его готовности идти до конца. Таким образом, действия Нисимуры не укладываются в стереотип поведения японских адмиралов в сложной боевой обстановке. Может быть, объяснение всем этим моментам удастся найти, оценивая человеческие качества вице-адмирала Нисимуры? К сожалению, доступных сведений о его личности весьма немного. Тем не менее, исходя из его боевой биографии о нем можно составить некоторое представление. Имеются данные о том, что свою карьеру Нисимура начал командиром эсминца. В конце 1939 г., будучи уже контр-адмиралом, он поднял флаг командира 4-й ЭЭМ на легком крейсере "Нака". В этой должности Нисимура встретил начало войны на Тихом океане, в течение первых шести месяцев которой принял активное участие в наступательных операциях японского флота в Голландской Индии. После сражения за Мидуэй, в котором Нисимура держал флаг на легком крейсере "Юра", он получил повышение, сменив 20 июня 1942 г. Куриту в качестве командира 7-й дивизии крейсеров. Далее Нисимура прошел через кампанию на Соломоновых островах, неоднократно принимая участие в непосредственных боевых столкновениях. В должности командира 7 ДКР адмирал состоял до 20 марта 1944 г. И вот в операции "Сё-1" Нисимура (уже в звании вице-адмирала) - командир 2-й ДЛК, командующий соединением. Не так уж много в японском флоте адмиралов с подобной, по настоящему боевой биографией, заслуги которых отмечены должностным ростом в годы войны. Офицер с таким послужным списком, достигший своих звезд и чинов в боях и походах, не может быть просто твердолобым служакой, не имеющим никакого представления об оперативной обстановке и лезущим любой ценой напролом на частокол вражеских пушек. Какой же из всего этого следует вывод? Полагаю такой. На самом деле эскадра Нисимуры еще в большей степени, чем соединение Одзавы играло роль приманки. В большей - потому, что корабли Одзавы, свободно маневрируя в открытом море и подвергаясь только воздушным атакам, имели гораздо больше шансов уцелеть, чем корабли Нисимура, непосредственно поставленные в узком проливе перед жерлами американских орудий. Одзава отвлекает на себя авианосцы Хэлси, задача Нисимуры - оттянуть к югу линкоры и крейсера Кинкейда. И второй выполняет свою задачу не хуже первого! К утру 25 октября 1944 г. все тяжелые единицы 7-го флота США находятся очень далеко от места боя американцев с соединением вице-адмирала Куриты у острова Самар, да еще, практически, без боеприпасов. Кинкейд взывает о помощи только к ушедшему далеко на север Хэлси - на эскадру Олдендорфа рассчитывать не приходится. Роль приманки для тяжелых артиллерийских кораблей 7-го флота, отведенная Соединению "С", вполне объясняет и состав эскадры, весьма ограниченный по своим боевым возможностям, и игнорирование вице-адмиралом Нисимурой того факта, что Курита был вынужден отклониться от графика достижения залива Лейте. Выполняя свою задачу, Нисимура вполне мог, а то и должен был, оказаться на месте раньше Куриты. Он не мог лишь опоздать.

 В состав соединения С входил тяжелый крейсер "Могами", превращенный
в авианесущий корабль.
В состав соединения С входил тяжелый крейсер "Могами", превращенный
в авианесущий корабль.
Возникает вопрос, а могли ли японцы в принципе позволить себе роскошь принести в жертву корабли Нисимуры? Почти со 100-процентной вероятностью обречь всю эскадру на гибель, не рассчитывая на нанесение в этом бою адекватного урона противнику? Для ответа необходимо вспомнить о размерах стратегических ставок. Командующий Объединенным флотом адмирал Тоёда публично объяснял свое решение пойти на риск и начать операцию "Сё-1" тем, что сухопутные войска на Филиппинах вообще не имели никаких шансов на отражение высадки американского десанта. Тоёда после войны сказал: "В случае неудачи в Филиппинской операции морские коммуникации с югом были бы полностью отрезаны и флот, вернувшись в японские воды, не смог бы получать необходимого топлива, а оставшись в южных водах, не смог бы получать боеприпасы и вооружение. Не было никакого смысла спасать флот за счет утраты Филиппин". Другими словами, потеря Филиппин делала существование сколь угодно потенциально сильного японского флота бессмысленным. Флот микадо должен был или сорвать американскую десантную операцию, или с честью погибнуть, нанеся противнику возможно больший урон. Иначе, потерпев поражение и отступив, оставалось только беспомощно дожидаться конца войны в своих базах. Когда на чашу весов бросалось все, сохранение или гибель двух старых линкоров, крейсера и четырех эсминцев, как и судьба 4500 человек их экипажей не играли никакого значения. Таким образом, гибель отряда Нисимуры - не проявление стратегического гения Кинкейда и тактического таланта Олдендорфа, и не результат близорукости (отрешенности, бездарности и т.д.) японского адмирала. Это фрагмент тонко просчитанного японцами плана отвлечения любой ценой всех возможных противников Соединения "А" вице-адмирала Куриты из залива Лейте. Все действия вице-адмирала Нисимуры - осознанное и целенаправленное выполнение в полной мере известного ему оперативного замысла. Вероятнее всего, именно эта осознанность, а не слепая безнадежность, является подтекстом его последнего приказа по соединению. Наиболее серьезным вопросом, проверяющим предложенную гипотезу "на прочность", является отсутствие каких-либо подтверждений ее в трудах военно-морских классиков и мемуарах участников кампании. Парирует этот выпад контрвопрос: насколько широк был круг лиц, которые могли в полном объеме знать план операции "Сё-1" в целом, и конкретные оперативные замыслы японских адмиралов (Курита и Нисимура) в частности? Сам план "Сё-1" в целом указывал лишь место генерального сражения и вряд ли нисходил до предписания конкретных тактических приемов. Кстати, всего таких планов существовало четыре: сражение на Филиппинском направлении - "Сё-1", в зоне контролируемых морских коммуникаций - "Сё-2"; на направлении собственно Японии, исключая Хоккайдо - "Сё-3"; на северо-восточном направлении - Хоккайдо, Курилы, Южный Сахалин - "Сё-4". Находившиеся в Японии Оперативные отделы МГШ и штаба Объединенного флота, планируя сражение, конечно же, ставили задачу вице-адмиралу Нисимуре пройти проливом Суригао (представлять этот маневр экспромтом Нисимуры или даже Куриты просто несерьезно). Но от кого Нисимура мог получить приказ выполнять задачу во что бы то ни стало? Именно приказ до последней возможности играть роль приманки для линкоров 7-го флота. Из метрополии? От Куриты? И кто мог знать о таком приказе? Нисимура погиб. Американцы допрашивали пережившего войну Куриту (1889 - 1977), и чуть ли не в первую очередь - о действиях японского флота при Лейте. Однако источники повествуют о практической бессвязности его ответов. Был ли это бред психически надломленного глобальным поражением флотоводца или шок стратега, осознавшего бесполезность огромных жертв, принесенных для создания идеальной оперативной ситуации, которой он не сумел воспользоваться? Так или иначе, похоже, Курита унес в могилу тайну последних приказов адмиралу Нисимуре. Основная часть штаба Куриты погибла при потоплении подлодкой тяжелого крейсера "Атаго". Офицеры штаба Нисимуры ушли в пучину с "Ямасиро". В итоге, сегодня все известные японские источники не отходят от классического видения подоплеки хода сражения. Но не повторяют ли они при этом американских авторов? В свою очередь, маститые американские историки и профессора от флота, и архивные адмиралы не могут позволить себе описывать бой в проливе Суригао иначе, чем так, как это стало уже хрестоматийным. Признай они, что не Нисимура попал в ловушку, а Кинкейд "купился" на легкую добычу, выйдет, что американцев при Лейте обманули дважды. Одзава заставил Хэлси охотиться за своим бессильным авианосным соединением, а тут еще и Нисимура! Выйдет, что не только 3-й, но и большая часть 7-го флота США действовала в сражении именно таким образом, как того хотели в японском штабе. И японцы оказались разбиты не флотоводческим талантом адмиралов, а благодаря подлинному героизму американских летчиков и моряков. В бою у острова Самар именно они заставили адмирала Куриту поверить, что дерзкий японский план не удался. Война - это всегда трагедия и рассуждения о "красоте" той или иной операции - цинизм чистой воды. Но, с точки зрения военного искусства, жаль, что Курита не смог реализовать ту оперативную ситуацию, которую создали для него адмиралы Одзава и Нисимура. Последний - ценой гибели своей эскадры и собственной жизни. В мае 2001 г. в Интернете появилась информация о том, что частной компанией подводных исследований под руководством Джона Беннета (John Bennet Deep Ocean Research International) в предыдущем месяце был обнаружен остов японского линейного корабля, первоначально идентифицированного как "Ямасиро". Корабль находится на дне в точке, близкой от отмеченного в бою места погружения. Согласно предварительным просмотрам сделанных фотографий, остов поврежден незначительно и возможна однозначная идентификация. Беннет запланировал новые спуски к "Ямасиро", а также поиски одной или обеих частей корпуса "Фусо". Сообщалось, что он приготовил мемориальные доски для возложения на морское дно в местах упокоения гигантов. Будем надеяться, что история со временем откроет хотя бы часть тайн боя в проливе Суригао.
Редакция благодарит за помощь в подборе иллюстраций
С. Балакина, Е. Грановского, П. Кравченко и А. Царькова.
(*) Согласно сайта http://www.combinedfleet.com/atully06.htm автором данной статьи является Anthony P. Tully.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Силы противников, участвовавшие в боевых действиях в районе
пролива Суригао
Японский Императорский флот
Соединение "С" ("Южная группа") - вице-адмирал
Nishimura Shoji
2 ДЛК: ЛК Yamashiro - флагман (контр-адмирал
Shinoda Katsukiyo),
ЛК Fuso (контр-адмирал Ban Masami)
KPT Mogami (кэптен Tooma Ryo)
Три эсминца из состава 4 ДНЭМ 10 ЭЭМ:
Michishio - лидер (коммандер Tanaka
Tomoo, командир 4 ДНЭМ кэптен Takahashi Kameshirou),
Yamagumo (коммандер Ono Shirou),
Asagumo (коммандер Shibayama Kazuo);
Shigure (лейтенант-коммандер Nishino
Shigeru) - из состава 2 ДНЭМ 2 ЭЭМ
Второе Ударное Соединение ("Северный
отряд") - вице-адмирал Shima Kiyohide
21 ДКР: KPT Nachi - флагман (кэптен Kanooka
Enpei),
KPT Ashigara (?)
1 ЭЭМ (контр-адмирал Kimura Masatomi): КРЛ Abukuma
- флагман (?)
7 ДНЭМ: Akebono (лейтенант-коммандер Inuzuka
letaka)
Ushio (лейтенант-коммандер Araki Masatomi)
18 ДНЭМ: Shiranuhi - лидер (лейтенант-коммандер
Ara Teisaburou, командир 18 ДНЭМ кэптен Inoue
Yoshio)
Kasumi (лейтенант-коммандер Matsumoto
Shoohei)
21 ДНЭМ: Wakaba - лидер (лейтенант-коммандер
Ninokata Kanehumi, командир 21 ДНЭМ кэптен Ishii
Hisashi)
Hatsushimo (лейтенант-коммандер Sakawa
Masami)
Hatsuharu (лейтенант-коммандер Nagakura
Yoshiharu)
Военно-морской флот США
Контр-адмирал Oldendorf (флаг на крейсере Louisville)
Контр-адмирал Weyler (флаг на линкоре
Mississippi)
West Virginia (BB-48) - флагман, Tennessee
(BB-43), California (BB-44), Maryland
(BB-46), Mississippi (BB-41), Pennsylvania
(BB-38)
Контр-адмирал Heyler (флаг на крейсере Columbia)
Columbia (CL-56), Denver
(CL-58), Minneapolis (CA-36), Portland
(CA-33), Louisville (CA-28)
Контр-адмирал Berkey (флаг на крейсере Phoenix)
Phoenix (CL-46) - флагман, Boise
(CL-47), Shropshire (RAN)
54 эскадра ЭМ - кэптен Coward
107 ДНЭМ (кэптен Coward):
McGowan (DD-678) - лидер, Melvin
(DD-680), Riey (DD-688), Mertz
(DD-691),
108 ДНЭМ (кэптен Phillips):
McDermut (DD-677), Monssen
(DD-798), McNair (DD-679)
24 эскадра ЭМ - кэптен McManes
Hutchins (DD-476) - лидер, Bache
(DD-470), Beale (DD-471), Daly
(DD-519), Killen (DD-593), Arunta
(RAN)
56 эскадра ЭМ - кэптен Smoot
111 ДНЭМ (кэптен Smoot):
Newcomb (DD-586), Albert W.Grant
(DD-649), Richard P.Leary (DD-664),
112 ДНЭМ (кэптен Conley):
Halford (DD-480), Robinson
(DD-562), Bryant (DD-665)
ДНЭМ (коммандер Boulware)
Leutze (DD-481), Heywood L.Edwards
(DD-663), Bennion (DD-662)
ДНЭМ (коммандер Hubbard)
Cony (DD-508), Sigourney
(DD-643), Aulick (DD-569), Claxton
(DD-571), Thorn (DD-505), Welles
(DD-628)
лейтенант-коммандер R.A.Lison
39 торпедных катеров
|