|
В летописях военного флота практически любой морской державы найдется корабль,
судьба которого овеяна туманной дымкой почти мистической
таинственности.
В императорском флоте периода Второй
мировой войны таким кораблем оказался эскадренный миноносец
“Сигуре”, чья удивительная способность избегать гибели в
самых безнадежных ситуациях долго приводила японских моряков
в изумление.
“Сигуре” — один из эскадренных миноносцев
типа “Сирацую”, весьма заурядных кораблей среди своих великолепных
собратьев. Тактико-технические характеристики эсминцев этой
серии оказались принесены в жертву политической целесообразности,
заставившей Японию подписать Лондонский договор 1930 г.
об ограничении вооружений на море. Вынужденная временно
умерить свои амбиции и скорректировать кораблестроительные
программы, приведя в рамки отведенных лимитов водоизмещение
боевых кораблей основных классов, Япония вслед за крупными
эсминцами типа “Фубуки” начала строительство кораблей поскромнее.
Так вначале появились шесть единиц типа “Хацухару”, затем
десять “Сирацую”. Стремясь сохранить мощное торпедное вооружение
на “Сирацую” впервые в японском флоте применили четырехтрубные
торпедные аппараты. С целью обеспечения остойчивости при
ограниченном водоизмещении пожертвовали артиллерийским вооружением
— вторую башню сделали одноорудийной и спустили с кормовой
надстройки на палубу, что сильно ограничило ее углы обстрела.
Впрочем, это отступление оказалось временным: все последующие
серии эскадренных миноносцев для Императорского флота строились
уже без оглядки на международные соглашения и на их фоне
“договорные” корабли выглядели достаточно скромно.
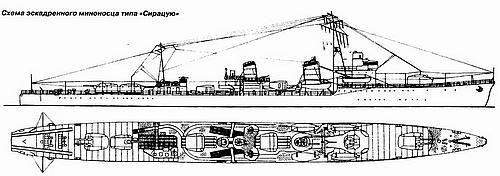
В соответствии с японской военно-морской
традицией именовать корабли этого класса поэтическими эпитетами
природных и погодных явлений, вступивший в строй 7 сентября
1936 г. эсминец получил имя “Сигуре”, означающее затяжные
дожди осени — начала зимы.
Быстрое пополнение японского флота кораблями
современных проектов отодвинуло еще довольно молодые эсминцы
на второй план. Начало войны на Тихом океане “Сигуре” (командир
— коммандер Сео Нобору) встретил в составе 27-го дивизиона
Первой эскадры Первого флота. Дивизион оказался разделен:
в то время как “Югуре” и “Ариаке” действовали далеко на
юге, у Явы и Австралии, “Сигуре” и “Сирацую” несли патрульную
службу в водах метрополии, сопровождали конвои на Формозу,
участвовали в операциях по захвату Филиппинских островов.
Их походы проходили в тех водах, где встреча с вражескими
кораблями казалась просто невозможной.
Спокойная служба в родных водах закончилась
для “Сигуре” 15 апреля 1942 г. Оставив Сасебо, 27-й дивизион
в полном составе вышел к Пескадорским островам на встречу
с авианосцами “Секаку” и “Дзуйкаку” и в составе их эскорта
перешел на атолл Трук. Южные моря оказались для японского
флота весьма “горячими”. Уже 7—8 мая “Сигуре” участвовал
в первой в истории схватке авианосцев — сражении в Коралловом
море. Впрочем, кроме самих “плавучих аэродромов”, остальным
кораблям повоевать не пришлось — они, по сути дела, остались
только наблюдателями.
22 мая “Сигуре” возвратился в Японию, бросив
якорь в Куре. Он как раз успел к комплектованию сил, привлекаемых
к грандиозной операции, призванной уничтожить американский
флот у атолла Мидуэй. В последовавшем сражении, переломившем
ход борьбы на тихоокеанском театре военных действий в пользу
США, “Сигуре” и его дивизион были задействованы на второстепенном
направлении в районе Алеутских островов. Здесь, как и в
Коралловом море, герой нашего повествования ничем свое имя
прославить не смог. Ее Величеству Фортуне пока что не было
никакого дела до маленького кораблика.
Однако вскоре все кардинальным образом
изменилось. В августе 1942 г. началась длительная и кровопролитная
кампания на Соломоновых островах. “Вес” эсминцев в вооруженной
борьбе на море существенно вырос. Большая часть японского
флота так или иначе участвовала в борьбе за Гуадалканал
и “Сигуре” не остался в стороне. К концу сентября 1942 г.
все корабли 27-го дивизиона, переданного к этому времени
в состав Четвертой эскадры Второго флота, действовали в
районе Соломоновых островов.
“Сигуре” пришел в главную базу японских
сил на юго-востоке океанского фронта — Рабаул — в конце
сентября 1942 г. и влился в ряды уже находившихся здесь
эсминцев, начавших беспримерную по интенсивности и самоотверженности
деятельность по доставке подкреплений на остров Гуадалканал.
За те несколько месяцев, что японцы пытались удержать остров,
в его водах произошло несколько ожесточенных сражений, случались
громкие победы и тяжелые поражения. Но ни в одном из больших
боев “Сигуре” не участвовал, только в “Первом сражении у
Гуадалканала” 13 ноября спасал экипаж тонущего линкора “Хиэй”.
У него оказалась другая роль — в знаменитом “токийском экспрессе”
он служил одним из “вагонов”. Иногда 27-й дивизион назначался
в прикрытие, иногда сам перевозил войска и грузы, но совершив
с десяток походов, чудесным образом избежал встречи с противником.
20 ноября, когда “Сигуре” находился на
Труке, коммандер Сео получил новое назначение. Его место
на мостике эсминца занял лейтенант-коммандер Ямагами Камесабуру.
Видимо, интенсивная эксплуатация последних
месяцев сказалась на техническом состоянии корабля и в дальнейшем
он не участвовал в опасных перевозках в зоне боевых действий.
“Сигуре” обеспечивал переходы кораблей и судов между тыловыми
базами, осуществлял противолодочное патрулирование и эскортирование.
Наконец и он дождался своей очереди на ремонт в метрополии
и 15 февраля 1943 г. покинул Трук, через несколько дней
встав в док в Сасебо. В условиях войны на основательный
ремонт механизмов времени не хватало, и эсминец поспешили
“выпихнуть” с верфи. Уже 13 марта “Сигуре” покинул Сасебо
и, эскортируя два транспорта, направился на Трук.
На борту уходящего из Сасебо корабля находился
новый командир 27-го дивизиона кептэн Хара Тамеичи. Командуя
с начала войны новейшим эсминцем “Амацукадзе”, он участвовал
во многих сражениях войны и успел приобрести славу умелого
и отважного офицера. Теперь, получив повышение, Хара с некоторым
сомнением принял новое назначение. Свои впечатления от него
он описывал следующим образом: “27-й дивизион состоял
из четырех старых эсминцев водоизмещением по 1700 тонн,
с трудом выжимающих 30 узлов полного хода. Их экипажи состояли
из плохо обученных запасников старших возрастов, над которыми
экипажи других кораблей только потешались”. Не произвело
особого впечатления и знакомство с “Сигуре”: “Одного
взгляда на экипаж корабля было достаточно, чтобы понять,
что меня ждет трудная работа. Мои новобранцы на “Амацукадзе”,
которых я начал обучать еще до начала операции у Мидуэя,
выглядели, по сравнению с нынешними, старыми морскими волками.
А эти напомнили мне плохо дисциплинированную армейскую роту,
случайно попавшую на военный корабль”.
Прибыв на Трук, Хара узнал, что 27-й дивизион
существует чисто номинально — корабли переданы в состав
других дивизионов и выполняют самые различные задания раздельно.
Получив от командования три месяца на подготовку, Хара беспрерывными
тренировками начал превращать “Сигуре” в полноценный боевой
корабль. В эти месяцы на долю эсминца выпадали только спокойные
задания вроде сопровождения линкора “Мусаси” с прахом адмирала
Ямамото в Японию или обеспечения перевозок между Труком
и другими тыловыми базами. В июле 27-й дивизион очередной
раз переподчинили — теперь он входил в состав Второй эскадры
Второго флота, но буквально через несколько дней дивизион
стал представлять силу скорее виртуальную, чем реальную
— эсминец “Югуре” погиб севернее острова Коломбангара под
американскими бомбами 20-го июля, а “Ариаке” — 28 июля.
Если учесть, что “Сирацую” несколько месяцев ремонтировался
в Японии и только приступил к боевой подготовке, то 27-й
дивизион превратился в “однокорабельный”.
Первое по настоящему боевое задание “Сигуре”
получил 1-го августа — вместе с эсминцами “Амагири”, “Хагикадзе”
и “Араси” доставить на остров Коломбангара 900 солдат и
120 т груза. Попытки японского флота усилить свои гарнизоны
в центральной части архипелага в течение июля привели к
двум морским боям к северо-востоку от острова. Поэтому,
на этот раз для прорыва к Вила было решено воспользоваться
узким и опасным как с тактической, так и навигационной точки
зрения проходом между Коломбангарой и о.Велья-Лавелья, обойти
Коломбангару с юго-запада и пройти наиболее опасную часть
пути в ночное время. “Токийский экспресс” вышел по расписанию
и без проблем добрался до пункта назначения. Лишь на обратном
пути его безуспешно атаковали американские торпедные катера,
причем флагманский “Амагири” таранным ударом потопил катер
РТ-109, едва не погубив Д. Кеннеди — будущего президента
США.
Впервые необычная судьба “Сигуре” дала
о себе знать во время следующего похода. “Экспресс” на Коломбангару
6 августа должен был повторить поход от 1 августа, только
вместо поврежденного при таране “Амагири” шел “Кавакадзе”.
Кептэн Хара возражал против шаблонного повторения удачной
операции, но командующий соединением командир 4-го дивизиона
Сугиура Кадзу настоял на своем варианте. В 3 часа ночи 6
августа корабли покинули Рабаул и направились к Коломбангаре.
Головным шел флагманский “Хагикадзе”, “Сигуре” оказался
замыкающим. Тут можно отметить некоторую расточительность
японцев, имеющих в группе из четырех эсминцев двух командиров
дивизионов со штабами.
День прошел без происшествий, но ближе
к вечеру американский самолет-разведчик обнаружил отряд.
На перехват “Токийского экспресса” вышли два дивизиона эсминцев:
12-й — “Данлэп”, “Крейвен”, “Мори” и 15-й — “Ланг”, “Стеретт”,
“Стек”.
В 22:00 6 августа (время местное) американские
корабли двумя группами вошли в залив Велья с юга и двигались
на север. Скрываясь от наконец появившегося у японцев радиолокатора,
они прижимались к берегу Коломбангары. Незадолго до полуночи
отряд Сугиура кильватерной колонной вошел в залив с севера.
Вскоре его обнаружили радары противника, в полной мере сумевшего
использовать элемент внезапности. Первая группа американских
эсминцев выпустила торпеды по ничего не подозревавшему неприятелю
и отвернула в сторону. Второй группе почти удалось сделать
охват головы вражеского строя, то есть занять идеальное
положение для применения артиллерии. Когда торпеды стали
рваться у бортов японских эсминцев, американцы дружно открыли
артиллерийский огонь.
Практически одновременно “Араси”, “Кавакадзе”
и “Хагикадзе” получили фатальные повреждения, и под ливнем
вражеских снарядов начали быстро погружаться, оставляя на
поверхности около 1800 солдат и моряков. Командир “Хагикадзе”
Сугиока Коушичи и командир “Кавакадзе” лейтенант-коммандер
Янасе Есио разделили печальную судьбу своих эсминцев, а
командиру “Хагикадзе” лейтенант-коммандеру Макоши Масахиро
и командующему 4-м дивизионом капитану Сугиура удалось спастись.
Из 700 человек экипажей и 820 находящихся на борту эсминцев
солдат уцелело лишь 310 человек.
А что же “Сигуре”? В момент начала боя
корабль, как говорилось выше, шел в колонне концевым. Поскольку
30-узловая скорость отряда было непосильна для изношенных
машин, эсминец постепенно отставал и к началу атаки противника
расстояние между “Сигуре” и его передним мателотом “Кавакадзе”
увеличилось до 1000 метров вместо положенных 500. Предусмотрительный
Хара заранее приказал развернуть торпедные аппараты на левый
борт и удвоить количество сигнальщиков. Подобная предусмотрительность
принесла плоды — сигнальщики “Сигуре” обнаружили американские
корабли в 23:44. К этому времени эсминцы 12-го дивизиона
уже произвели торпедный залп, выпустив 24 торпеды в 23:41.
Хара, фактически заменив командира корабля, немедленно приказал
повернуть вправо и атаковать обнаруженные цели торпедами.
Впрочем, эта атака оказалась безрезультатной. Через минуту,
одновременно с выпуском последней, восьмой торпеды, с “Сигуре”
в 800 метрах от себя заметили следы торпед (с других кораблей
их обнаружили только с 300 метров). Все замерли в ожидании.
И произошло чудо — американская торпеда пробила перо руля
и прошла, не взорвавшись. На корабле даже не заметили этого,
обратив внимание только на некоторое ухудшение управляемости.
Развернувшись, “Сигуре” отошел и, перезарядив торпедные
аппараты, снова направился к месту трагедии. Но вступать
в бой с превосходящими силами противника, имея на борту
250 солдат и заваленную грузами палубу, было самоубийственно.
Убедившись в гибели остальных кораблей отряда “Сигуре” повернул
в Рабаул. Так в первый раз эсминец вышел невредимым из боя,
ставшего последним для остальных кораблей отряда.
В Рабауле нашлись люди, обвинившие команду
эсминца в трусости и позорном бегстве, но очень скоро им
пришлось изменить свое мнение. По итогам боя у Хораниу 17
августа на счет “Сигуре” командование записало потопление
крейсера противника. Однако на сей раз “имела место приписка”
— никаких американских крейсеров японцы в тот раз не топили
и не повреждали. Выполняя затем различные задания в районе
Соломоновых островов “Сигуре” не только добивался успеха,
но и не получал повреждений. 1 октября 27-й дивизион пополнили
эсминцем “Самидаре”.
Именно в паре с новым “сослуживцем” в бою
у острова Велья-Лавелья 6—7 октября
“Сигуре” добился реального успеха. Корабли
27-го дивизиона вместе с четырьмя другими эсминцами прикрывали
транспортную группу (имела задание эвакуировать гарнизон
острова, в бою не участвовала). В ходе столкновения с американскими
эсминцами обе стороны понесли потери — на дно пошли “Югумо”
и “Шевалье”. Из 16 выпущенных “Сигуре” и “Самидаре” торпед
одна попала в цель. В результате у американского эсминца
“Селфридж” оказался оторван нос до второй башни. За этот
бой Хару наградили церемониальным мечем, а командиров “Сигуре”
и “Самидаре” — почетными кортиками. Способность “Сигуре”
избегать серьезных повреждений и каких либо потерь в непрерывных
боях принесла кораблю широкую известность среди японского
флота. Уже никто не вспоминал о его прошлом и уважительно
называли эсминец “несокрушимым” или “Кораблем-призраком”.
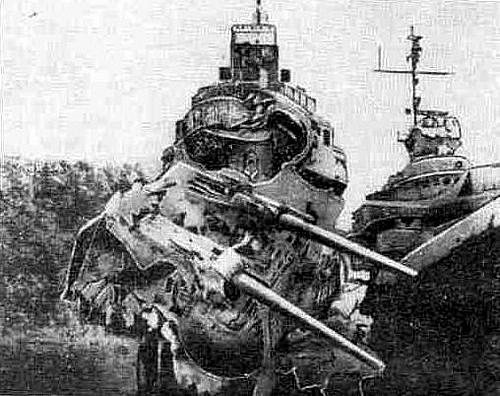
Повреждения американского ЭМ “Селфридж”
в бою у острова Велья-Лавелья
Последним крупным сражением, в котором
довелось участвовать “Сигуре” в 1943 г., стал неудачный
для японцев бой в заливе Императрицы Августы 2 ноября. Императорский
флот потерял легкий крейсер “Сэндай” и эсминец “Хацукадзе”,
ряд кораблей пострадал от вражеских снарядов и в результате
столкновений. Зато “Сигуре” в очередной раз избежал даже
небольших повреждений. Состав дивизиона снова сократился
до одного корабля, так как “Сирацую” и “Самидаре”, столкнувшиеся
во время боя, ушли ремонтироваться на Трук.
Во время налета американской авиации на
Рабаул 5 ноября, принесшего японцам довольно чувствительные
потери, “Сигуре” опять избежал повреждений, но напряженная
боевая служба сказалась на техническом состоянии корабля.
12 ноября, эскортируя тяжелые крейсера “Миоко” и “Хагуро”,
эсминец покинул Трук, направившись на ремонт в Сасебо, куда
и прибыл через пять дней. В Сасебо команда убедилась, что
слава “Сигуре” как “неуязвимого” корабля распространилась
далеко за пределы Южных морей. Усилиями флотских пропагандистов,
значительно преувеличивавших реальные успехи, “Сигуре” стал
известен как самый боевой эсминец Императорского флота.
В Сасебо кептэн Хара получил новое назначение,
покинул мостик эсминца и лейтенант-коммандер Ямагами Камесабуру.
По окончании ремонта 18 декабря новым командиром стал лейтенант-коммандер
Нисино Сигеру. Но его дебют оказался неудачным. 24 декабря
“Сигуре”, совершая переход на Трук, столкнулся в проливе
Бунго с рыболовецким судном. Пришлось возвращаться для ремонта.
Только на четвертый день нового 1944 г. “Сигуре” покинул
Йокосуку и в составе небольшого конвоя вышел к Труку.
Планируя в начале 1944 г. захват атолла
Эниветок, занимающего важное стратегическое положение на
пути к Марианским островам, командование американских ВМС
встало перед необходимостью нейтрализации японской базы
на Труке. Этот атолл в группе Каролинских островов с самого
начала войны являлся ключевым элементом оборонительного
периметра Империи на юго-восточном направлении.
Расположение Трука, его укрепления, а также
наличие удобной, защищенной рифами, якорной стоянки стали
основанием для именования атолла “Гибралтаром Тихого океана”.
Созданная здесь японская база всегда была для США костью
в горле, но лишь к 1944 г. оперативная обстановка впервые
позволила янки нанести по атоллу мощный удар.
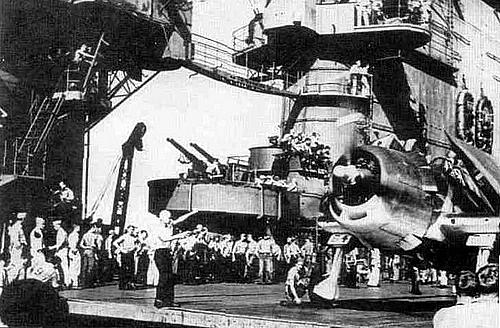
На палубе американского авианосца
идет подготовка самолетов для удара по Рабаулу
4 февраля над лагуной Трука появился американский
самолет-разведчик. Он обнаружил здесь значительную часть
Объединенного флота. Главнокомандующий японскими ВМС адмирал
Кога Минэити хорошо помнил результаты сокрушительных ноябрьских
ударов вражеской палубной авиации по Рабаулу. Он понимал,
что оставаясь на Труке флот попадает в смертельную ловушку,
подобную Перл-Харбору, и немедленно отдал приказ о выводе
боевых кораблей с Трука и эвакуации наиболее ценного оборудования
базы. Пожалуй, за всю войну на Тихом океане это был наиболее
разумный, дальновидный и своевременный шаг японского командования.
В течение последующей недели японские авианосцы,
линкоры, крейсера один за другим снялись с якоря и несколькими
отрядами покинули гостеприимную доселе лагуну. Корабли,
нуждающиеся в ремонте, направлялись в метрополию. Боеспособные
силы флота следовали к островам Палау, где японцы решили
создать новую главную операционную базу в регионе.
Таким образом, когда в середине февраля
в рамках первого этапа операции против Трука десять американских
субмарин заняли позиции на путях возможного отхода японцев
западнее и северо-западнее атолла, перехватить противника
они уже опоздали. Удалось отличиться только подлодке “Скейт”,
потопившей 17 февраля в 160 милях к северу от Трука крейсер
“Агано”. Корабль находился на базе в ремонте и не смог покинуть
роковой атолл вместе с основными силами. В результате один
из наиболее современных легкий крейсеров открыл удручающий
список кораблей и судов Империи, нашедших свой конец в водах,
омывающих Трук.
Утром 17 февраля самолеты с авианосцев
адмирала Митшера нанесли сокрушительные удары на аэродромы
и внутренний рейд Трука. Непрерывные авианалеты продолжались
два дня и одну ночь. Ценой потери 25 машин и повреждения
в единственной вражеской контратаке авианосца “Интрепид”
американцы уничтожили на земле и в воздухе около трех сотен
самолетов противника, разрушили большинство объектов береговой
обороны, нанесли тяжелый урон застигнутым в лагуне кораблям.
На рейде погибли легкий крейсер “Нака” (флагман отряда,
обеспечивающего эвакуацию базы), эсминцы “Татикадзе” и “Фумидзуки”.
Эсминец “Оите”, возвращавшийся на Трук со спасенными им
210 членами экипажа “Агано”, был потоплен при входе в лагуну
со всеми находившимися на борту людьми. На дно лагуны легли
также три десятка транспортов и торговых судов водоизмещением
в 200 тыс. брт.
Когда 17 февраля начался налет, севернее
Трука еще несколько японских кораблей “испытывали судьбу”.
Адмирал Спрюэнс, имевший в своем распоряжении пару мощнейших
линкоров “Нью Джерси” и “Айова”, два тяжелых крейсера и
четыре эсминца и выполняя задачу не допустить прорыва японских
кораблей из устроенной западни, перехватил последний конвой,
успевший оставить Трук. Легкий крейсер “Катори” и эсминец
“Маикадзе” быстро затонули под градом вражеских снарядов.
Только эсминец “Новаки”, неоднократно накрываемый залпами
линкоров, сумел оторваться от преследования.

Однотипный с “Сигуре” эскадренный
миноносец “Умикадзе”
“Сигуре” пришел на Трук 11 января. С 19
января по 15 февраля он обеспечивал переход танкера по маршруту
Трук — Баликпапан — Трук, вернувшись в роковую лагуну практически
накануне устроенного американцами побоища.
Едва начался налет, “Сигуре” дал ход и
направился через Северный Канал в открытый океан. В это
время корабль поразила бомба, взрыв которой вывел из строя
орудийную башню № 2 и стал причиной затопления кормовых
погребов. Потери экипажа оказались весьма существенными:
21 погибший и 45 раненых. Тем не менее судьба вновь улыбнулась
своему любимцу: в критической ситуации и он смог вырваться
из лагуны Трука, миновать эскадру Спрюэнса и завесу подводных
лодок. 19 февраля “счастливчик” пришел на Палау.
К концу лета 1944 г. “Сигуре” остался
единственным кораблем своего типа, находящимся в строю.
Остальные девять “сирацую” уже покоились на океанском дне.
Гибель “Ямакадзе” (июнь, 1942 г.), “Судзукадзе” (январь
1944), “Умикадзе” (февраль, 1944) и “Самидаре” (август,
1944) стала иллюстрацией неготовности Императорского флота
к противолодочной борьбе — эти эсминцы оказались потоплены
американскими субмаринами. “Юдати” расстреляли американские
корабли в ноябрьском 1942 г. сражении у Гуадалканала, знаменитом
бою, известном как “Пятница, 13-е”. В марте 1943 г. в заливе
Кула в стычке с противником пошел ко дну “Мурасаме”, а гибель
“Кавакадзе” во время боя в заливе Велья описана выше. Печальный
конец карьеры “Харусаме” наступил в июне 1944 г. во время
операции по доставке подкреплений на о. Биак — корабль уничтожили
американские бомбардировщики. Находившийся здесь же “Сигуре”
спас 110 человек из состава экипажа систер-шипа.
Головной корабль серии — “Сирацую” — вполне
может претендовать на сомнительные лавры жертвы наиболее
нелепой случайности за всю историю Второй мировой. В ночь
на 15 июня 1944 г., когда сопровождаемый эсминцами отряд
судов снабжения находился в Филиппинском море, сигнальщики
“Сирацую” обнаружили фосфоресцирующий след, стремительно
тянущийся к борту корабля. Приняв свечение, возникшее в
результате движения какого-то морского животного за след
торпеды, командир “Сирацую” лейтенант-коммандер Мацуда Куро
приказал увеличить скорость и пытался резким отворотом уклониться
от казавшегося неминуемым попадания. При этом эсминец начал
пересекать курс танкера “Сейо Мару”, но завершить маневр
не успел. Форштевень тяжелого судна со скрежетом подмял
под себя эсминец, разрывая и корежа его корпус. Когда корма
“Сирацую” стала погружаться в воду, на палубе стали рваться
глубинные бомбы, убивая и калеча оказавшихся в воде моряков.
В результате катастрофы погибло 104 человека, включая командира
корабля.
Кроме того, 1944 г. стал роковым для первого
военного командира “Сигуре” коммандера Сео. 10 января он
принял новейший эсминец “Сузуцуки”, а через пять дней вышел
на нем в охранении войскового транспорта “Акаги Мару” из
Куре к атоллу Уэйк.
В ночь на 16 января корабли вошли в пролив
Бунго, где их обнаружила несшая боевое патрулирование американская
подводная лодка “Стерджон”. Ей удалось приблизиться на расстояние
эффективного удара и последовал торпедный залп. “Сузуцуки”
поразили сразу две торпеды. Хотя корабль остался на плаву
и в последствии вновь вернулся в строй, повреждения оказались
очень серьезными. Эсминец потерял носовую и кормовую оконечности,
на нем погибло 135 моряков, включая коммандера Сео и командира
61-го дивизиона кептэна Томари Мицуйоши, а также 89 солдат,
находившихся на борту в качестве пассажиров.
Что касается “Сигуре”, то 19—20 июня 1944
г. он участвовал в битве в Филиппинском море. Его действия
ограничились спасением экипажа гибнущего авианосца “Хийо”,
зато четыре месяца спустя произошли события, большими буквами
вписавшие имя эсминца в историю войны на море. К тому моменту
после гибели всех остальных эсминцев 27-го дивизиона 10
октября его расформировали, а “Сигуре” перешел под прямое
управление Второй эскадры.
Одним из элементов грандиозного плана
“Се-1” (оборона Филиппин), предполагавшего контрудар японского
флота по американским силам вторжения восточнее о. Лейте,
являлось согласованное по времени прибытие в залив Лейте
нескольких японских эскадр для двухстороннего охвата и уничтожения
противника. Одной из таких эскадр, известной как “Южная
группа” (иначе соединение “С” или Третья группа ночного
боя), командовал старый морской волк вице-адмирал Нисимура
Сейджи. Его эскадре в составе линкоров “Ямасиро” (флагман),
“Фусо”, тяжелого крейсера “Могами”, эсминцев “Асагумо”,
“Митисио”, “Сигуре” и “Ямагумо”, предстояло в ночь на 25
октября миновать узкий (ширина у южного входа всего 12 миль)
пролив Суригао. Днем 24 октября во время налета американской
авиации “Сигуре” получил попадание бомбой в район первой
башни. Хотя пять человек погибло, а шесть получили ранения,
башня осталась в строю.
Нисимура вел свои корабли вперед, не подозревая,
что на выходе из пролива его ожидают превосходящие силы
противника, заблаговременно оповещенные авиаразведкой. Выстроенные
в боевую линию, пересекавшую курс японского отряда классической
“палочкой над Т”, в ожидании неприятеля маневрировали шесть
американских линкоров и восемь крейсеров, прикрываемые 21
эсминцем. По берегам самого пролива рассредоточились 39
торпедных катеров. Наличие на американских кораблях радиолокаторов
для обнаружения целей и корректировки огня ночью вообще
не оставляло японцам шансов на успех в предстоящем бою.
К тому же, движение японских кораблей в узости создавало
чрезвычайно выгодные условия для торпедных атак. Отряд Нисимуры
был просто обречен...

Линейный корабль “Фусо” не сумел спастись
из ловушки пролива Суригао
Последовавшие торпедные атаки американских
эсминцев нанесли катастрофический урон японцам еще до начала
артиллерийского боя. Пораженный торпедой “Ямагумо” первым
затонул со всем экипажем. Затем был расстрелян потерявший
ход “Митисио”. Вышедший из строя “Асагумо” отстал от отряда.
Линейный корабль “Ямасиро”, атакованный эсминцами “Киллен”,
“Монссен” и “Ньюкомб”, получил повреждения. Мощный взрыв
разорвал пополам линкор “Фусо” — торпеды эсминцев “Мак Гроун”,
“Мелвин” и “Ремей” вызвали детонацию его артиллерийских
погребов. Пылающие половины могучего корабля закачались
на волнах, медленно поглощаемые темной водой. В этот момент
командир “Сигуре” в путанице ночного морского боя принял
вышедший из строя “Фусо” за флагманский “Ямасиро” и, развернувшись,
попытался подойти к своему “флагману”, но не сумел найти
его и вернулся к “Ямасиро”, которого упорно принимал за
“Фусо”.
Нисимура велел передать на уцелевшие корабли
группы приказ продолжать движение. Но к этому времени американские
операторы на линкорах давно уже отслеживали передвижение
японской эскадры на экранах своих радиолокаторов, и в 03:53
заговорил главный калибр тяжелых кораблей 7-го флота.
Внезапный огневой удар такой мощи и точности
оказался для Нисимуры последним неприятным сюрпризом. Отсутствие
эффективной радиолокационной аппаратуры не давало возможности
японцам вести ночной бой на навязываемой противником дистанции.
Линкор “Ямасиро” вскоре получил тяжелейшие повреждения.
Однако в 04:09 американцы прекратили огонь, так как под
обстрелом оказались свои эсминцы. Воспользовавшись неожиданной
передышкой, японские корабли начали разворачиваться на обратный
курс. Но “Ямасиро” уйти не сумел — получив попадания еще
двух торпед он остановился и к 04:19 затонул. С него почти
никто не спасся, погиб и сам Нисимура. Тяжелый крейсер “Могами”,
получивший серьезные повреждения и объятый пламенем, тем
не менее смог развернуться и уйти назад в пролив. “Сигуре”,
державшийся во время боя на правом траверзе флагмана, получил
одно прямое попадание крупнокалиберным снарядом и неоднократно
поражался осколками от близких разрывов. На эсминце вышли
из строя рулевое управление, гирокомпас, радио. Тем не менее
ему удалось ускользнуть вслед за “Могами”.
Утром 25-го американские крейсера и эсминцы
прочесали пролив и добили “Асагумо”. “Могами”, получивший
дополнительные повреждения в ходе налетов вражеской авиации,
был затоплен экипажем. Таким образом, единственным уцелевшим
кораблем Южной группы остался “Сигуре”. Он прибыл в Бруней
27 октября. Счастливый эсминец опять избежал гибели.
После окончания катастрофической для японского
флота баталии в Филиппинских водах “Сигуре” в эскорте тяжелого
крейсера “Тоне” 8 ноября покинул Бруней и 16-го вернулся
в отечественные воды, где на базе в Сасебо его поставили
в док для ремонта. Вероятно, во время перехода “Сигуре”
одержал свою последнюю победу: совместно с эскортным кораблем
“Чибури” и патрульным кораблем № 19 потопил американскую
подводную лодку “Гроулер” (SS-215) у Миндоро. Здесь 30 ноября
на борт “Сигуре” поднялся четвертый за войну и последний
командир лейтенант-коммандер Хадзивара Манубу.

“Юдачи” - представитель серии эсминцев,
к которой относился “Сигуре”
В связи с обнаружением крупного американского
соединения, направлявшегося для проведения десантной операции
к Минданао, командование японским флотом приняло решение
отправить в Манилу новейший авианосец “Унрю”. Кораблю, ведомому
ветераном многих сражений кептэном Канаме Кониши, предстояло
доставить на Филиппины груз реактивных пилотируемых бомб
“Ока”. Для сопровождения авианосца Канаме выделялся 52-й
дивизион лейтенанта-коммандера Сугама. В состав дивизиона
входили два современных эскортных миноносца типа “Матсу”:
“Хиноки” и “Моми”. Эти небольшие корабли, юркие и прочные,
имели хорошее оборудование для противолодочной борьбы и
несли значительное количество зениток. Выход отряда из Куре
первоначально наметили на 16 декабря, затем перенесли на
следующий день.
15 декабря в распоряжение Сугама поступил
“Сигуре”, пришедший из Сасебо. Эта новость быстро облетела
корабли отряда, везде встречаемая с неизменным восторгом.
К этому времени “Сигуре” получил на флоте репутацию непотопляемого
и его присоединение к –эскорту “Унрю” расценивалась моряками
как предзнаменование успешного похода.
Увы и ах! Везение “Сигуре” никогда не
распространялось на его спутников! Удаче эсминца в двух
прославивших его имя сражениях, сопутствовала гибель всего
остального отряда. “Сигуре” действительно удивительным образом
спасался в безнадежных ситуациях, но во всплеске оптимизма
на кораблях Канаме забыли старую японскую пословицу: “Повторившееся,
произойдет и в третий раз”.
Отряд Канаме покинул Куре в 08:30 17 декабря.
Опасный груз “Унрю” состоял из самолетов, боеголовок торпед,
взрывающихся катеров и тридцати реактивных бомб. Некоторое
количество солдат и технического персонала также вышли в
море на борту авианосца в качестве пассажиров.
Избегая подводной опасности, кептэн Канаме
отказался от маршрута, ведущего через пролив Бунго: этот
район давно стал излюбленным местом охоты американских субмарин.
Вместо этого корабли вышли из Внутреннего моря через западный
проход — пролив Симоносеки — и только затем повернули на
юг.
На следующий день небольшая эскадра рассекала
воды Южно-Китайского моря. Погода портилась на глазах. Крепчавший
ветер гнал темные волны, немилосердно раскачивающие миноносцы
Сугама. Впрочем, непогода в этом районе не шла ни в какое
сравнение с тайфуном, который в тот же день бушевал в Филиппинском
море, и являлась только отголоском бури, трепавшей корабли
3-го флота США. В течение суток дважды засекалась работа
американских радаров, и отряд несколько менял курс. Утром
19 декабря Канаме приказал увеличить скорость до 19 узлов
и привести экипажи в повышенную боевую готовность.
К полудню небо не прояснилось. Непогода
не позволяла организовать должное воздушное патрулирование,
а плохая видимость и высокие волны сводили к минимуму вероятность
своевременного визуального обнаружения вражеских субмарин.
Надеяться приходилось только на гидроакустические станции.
В 15:00 корабли соединения имели следующий
ордер: слева и справа на носовых крамболах авианосца шли
“Моми” и “Хиноки”, “Сигуре” занимал позицию за кормой “Моми”,
прикрывая “Унрю” с востока. Кептэн Канаме, его старший офицер
и штурманы находились на мостике, безуспешно вглядываясь
в свинцовые небеса и темно-серые волны. В 16:00 японские
корабли повернули на юг. Никто на их мостиках не подозревал,
что новый курс прямиком ведет на позицию патрулирующей субмарины.
Командир подлодки “Рэдфиш” МакГрегор обнаружил
вражеский авианосец в 16:27, сразу дав приказ на погружение.
К его неподдельному восторгу очередной поворот отряда противника
выводил цели прямо на подлодку. Восемью минутами позже МакГрегор
скомандовал шеститорпедный залп изо всех носовых аппаратов
с дистанции 1470 ярдов.
Гидроакустики и сигнальщики “Унрю” сумели
вовремя сообщить о неприятельских торпедах. Резким маневром
корабль ушел от пяти из них, но избежать шестой не удалось.
Она поразила авианосец в районе надстройки, он потерял ход
и получил крен на правый борт. В кормовых отсеках начался
пожар.
Затем МакГрегор разрядил по “Хиноки” все
четыре кормовые аппарата. Эта вторая атака едва не стоила
его экипажу жизней. Флагман 52-го дивизиона удачно уклонился
от торпед, оставив субмарину в незавидном положении: внутри
вражеского ордера, на перископной глубине, на виду поврежденного,
но не думающего тонуть авианосца и с пустыми торпедными
аппаратами! Удивительно, но держась у поверхности, лодка
осталась не замеченной с японских эсминцев. Там никому не
могло прийти в голову, что после атаки подлодка не затаилась
на глубине.
Наконец в 16:50 один из носовых аппаратов
был готов к бою. “Рэдфиш” подошла на 1100 ярдов и торпеда
устремилась к цели. За точным попаданием последовала детонация
страшного груза “Унрю”. В 16:57 авианосец скрылся под водой,
унося с собой кептэна Канаме, 1238 членов экипажа и неизвестное
число пассажиров.
В то время как “Хиноки”, жаждя мести,
искал субмарину, “Моми” и “Сигуре” начали спасательные работы.
Штормовое море нехотя отдавало свою добычу: всего уцелело
146 человек, из них один офицер, 87 матросов и старшин из
экипажа “Унрю”, а также 57 пассажиров. “Хиноки” нащупал
было подлодку и атаковал ее глубинными бомбами, но МакГрегор
увел свой поврежденный корабль на глубину и сумел уйти.
Миноносцы 52-го дивизиона проследовали
дальше в Манилу, а “Сигуре” всю ночь провел в тщетных поисках
американской субмарины. В довершение всех бед к утру на
эсминце вышло из строя рулевое управление и ему пришлось
возвращаться в Сасебо. С большим трудом корабль достиг базы
к утру 22 декабря.
Невероятно, но, вернувшись к японским
берегам, “Сигуре” в очередной раз избежал гибели! Достигнув
Филиппин, миноносцы 52-го дивизиона вечером 5 января 1945
г. попали под удар американской палубной авиации. “Моми”
отправился на дно, “Хиноки” отделался повреждениями, но
лишь для того, чтобы в конце следующего дня быть расстрелянным
американскими эсминцами. Оба миноносца погибли со всеми
находившимися на борту людьми. В соответствии с поговоркой,
повторившееся действительно произошло и в третий раз: из
покинувшего Куре 17 декабря отряда уцелел только удачливый
(или проклятый ?) “Сигуре”. Но похоже, что в этом походе
он исчерпал почти весь свой запас везения.
В последний день 1944 г. эсминец вышел
в сопровождении транспортного конвоя HI-87 из Модзи к Гонконгу.
Переход занял две недели и, что в то время стало уже редким
явлением, прошел практически без происшествий. Между тем,
к началу сорок пятого года районов для безопасного плавания
японских кораблей практически не осталось. Американские
подлодки хозяйничали даже в Японском море. Большинство единиц
некогда грозного Объединенного флота нашли свое упокоение
в океанских глубинах. Иные ржавели на верфях, не справляющихся
с ремонтом из-за отсутствия рук и материалов. Добыча американских
подводников становилась все скромнее, поэтому они стремились
не упустить ни одной возможности для атаки. В этой обстановке
“Сигуре” 17 января покинул Гонконг и, сопровождая танкер
“Саравак Мару”, взял курс на Сингапур.

Подводная лодка “Блэйкфин” - отправившая
на дно “Корабль-призрак”
Но звезда удачи закатилась окончательно.
24 января в Сиамском заливе в 160 милях восточнее Кота Бару
маленький конвой обнаружила американская подводная лодка
“Блэкфин”. Ее торпеды поразили и конвоира, и охраняемого.
Но если получивший повреждение танкер смог доползти до Сингапура
(позже он погиб, подорвавшись на мине), то “Сигуре”, потеряв
во время взрыва 36 человек, продержался на воде всего 10
минут. Спешно покинутый командой эсминец, затонул в точке
06° с.ш., 103° 48' в.д. Из списков флота его исключили 10
марта 1945 г.


|

