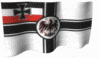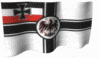Когда 5 августа 1914 года на кораблях
британского ВМФ и императорского флота Открытого моря Германии сыграли
зорю и команды узнали, что их страны вступили в войну, моряков охватило
ликование. Раскатистое «Ура!» эхом прокатилось над бухтой Гельголанд, в
дельте реки Яде, где стояли на рейде новые дредноуты и суда сопровождения
флота Открытого моря, — так встретили моряки радостную весть, передававшуюся
с корабля на корабль- «Впервые в истории Германии,— торжествовал командующий
одной из эскадр Рейнхард Шеер, настроенный шовинистически и верящий в скорую
победу,— военному флоту предстоит сыграть решающую роль в великой войне
за существование, в которую вступает наша страна».
И действительно, буквально каждый
немец, так или иначе связанный с флотом, по праву гордился мощью военно-морских
сил своего отечества. Но как распорядиться этой мощью, единого мнения не
было. И неудивительно. «Всем нам недостает личного опыта командования крупными
кораблями, недавно вступившими в строй,— признавался Шеер.— Мы не знаем,
как применять их в бою». Тем не менее, судя по его запискам, команды этих
крупных кораблей «были охвачены энтузиазмом и жаждой битвы».
По другую сторону Северного моря
офицеры британского флота, преисполненные гордости, не удивительной для
страны, чьи корабли не знали поражений со времен наполеоновских войн, тоже
рвались в бой. Уинстону Черчиллю, сорокалетнему Первому Лорду Адмиралтейства,
величавые дредноуты и корабли поддержки представлялись «наивысшим проявлением
военной мощи флота, какого еще не знала история». И эта мощь приготовилась
к битве как никогда ранее. К июльским маневрам все силы флота в соответствии
с приказом Адмиралтейства от 29 июля были приведены в боевую готовность.
Мощь этих двух флотов достигла такой
величины, что весь ход будущих военных действий можно было представить
как великую морскую битву. Но возникла парадоксальная ситуация: сцена,
как никогда в истории, готова для грандиозного представления, а ведущих
актеров и с той и с другой стороны вдруг охватывает страх перед выходом.
Этот страх, по сути дела, парализует оба флота на все четыре военных года.
Дело в том, что дредноуты, именно из-за своей устрашающей мощи, стали такими
ценными кораблями, что рисковать ими боялись. Обе воюющие стороны не жалели
ни сил, ни средств,
чтобы создать этих левиафанов. Когда
же вспыхнула война, то пришлось признать очевидное: и у неприятеля также
имеются дредноуты, причем в немалом количестве, и факт обладания современным
флотом сам по себе еще не является преимуществом. Потерять же его было
страшно. Быстро закрепившись, страх перешел в защитный рефлекс. Так и простояли
долгие месяцы два гиганта, поглядывая друг
на друга через полосу грязно-серого
океана. Время от времени они давали выход своей энергии, сея смерть и разрушение
в стане неприятеля, но до генерального сражения дели так и не доходило.
Для германского броненосного флота
складывалась своего рода патовая ситуация, но меньше всего в этом можно
было винить его создателя, 69-летнего адмирала фон Тирпица, который великолепно
знал, как использовать свое любимое детище. Краткий приказ из девяти пунктов
как нельзя лучше излагал его кредо. Суть последнего сводилась к следующему:
немецкий флот на всех парах идет к берегам Британии и с ходу наносит удар
по Гранд-флиту неприятеля.
«Целью всей нашей работы на протяжении
двадцати с лишним лет являлась подготовка флота к ведению активных боевых
действий. Следовательно, в открытом бою у нас больше шансов на победу».
В размышлениях Тирпица о достоинствах
наступательной стратегии сквозила обреченность: «В бою,— считал он,— английский
флот понесет такие же потери, как и мы». Для такого вояки, как адмирал
Тирпиц, соревнование в том, кто уничтожит больше кораблей противника, имело
большой смысл. Ведь если императорскому германскому флоту удастся выманить
британский Гранд-флит на просторы Северного моря и навязать ему битву,
ее последствия для Германии с ее великолепной сухопутной армией и развитыми
внутренними коммуникациями будут не столь пагубны, как для Британии, морской
державы, которая не могла позволить себе потерю крупных кораблей.
И если капризы погоды, просчеты
командования, столь часто решающие исход битвы, или иные превратности судьбы
приведут к победе Германии, война будет кончена. Грузовые суда нейтральных
стран, не сдерживаемые английскими морскими патрулями, завалят Германию
товарами, предназначенными для снабжения императорской армии, которая примется
крушить Францию, Россию и брошенные на произвол судьбы жалкие остатки британского
экспедиционного корпуса. А сама Англия окажется открытой для вторжения
врага.
К счастью для союзников, к рекомендациям
Тирпица мог прислушаться только один человек, которому давать подобные
советы было бессмысленно. Речь идет о кайзере Вильгельме II. Все предвоенные
годы Тирпица стремились заточить
в кабинете и немало в том преуспели: занимая почетную, но неуклонно терявшую
свою значимость должность статс-секретаря по военно-морским делам, он в
конце концов потерял всякую власть. В распоряжении адмирала остались лишь
чиновники и швейцары. Именно этого и добивались кайзер и его советники
— в основном представители высших армейских кругов, По сути дела, во главе
флота стал сам кайзер- «Командующие мне не нужны,— говаривал он,— Я сам
себе командующий». Высшие адмиралы докладывали непосредственно ему. И Вильгельм
недвусмысленно дал понять, что пока и поскольку замечательные новые корабли
остаются его величайшей гордостью, он не позволит рисковать ими и использовать
их как разменную карту в военных операциях.
Морские офицеры, понимавшие, что
кайзер более походит на опереточного комика, чем на верховного главнокомандующего,
могли осуждать его дилетантство. Но власть находилась в руках Вильгельма,
и с этим приходилось считаться. Каждый офицер флота, стремящийся сделать
карьеру, был вынужден принимать к сведению рекомендации Его Величества.
«На данный момент я приказал флоту Открытого моря занять оборонительную
позицию»— таковы были суть и тон советов кайзера. Конечно же, адмиралы
вняли словам монарха, и для дредноутов, а фактически и для всех других
крупных кораблей флота, пришлось разработать оборонительную стратегию.
По сути дела, эти корабли превращались в сторожевые суда, что делалось
для их же безопасности, равно как и для безопасности берегов Германии.
Армия тепло приветствовала такого
рода осторожную политику. Генеральному штабу для обеспечения броска во
Францию требовалось надежное прикрытие тыла и фланга. Флот, изготовившись
в бухте Гельголанд, блестяще справился бы с этой задачей. Находясь под
защитой береговой артиллерии и плотных минных полей, установленных по линии
Тершеллинг (у берегов Голландии) — ХорнсРев (у берегов Дании), флот Открытого
моря стал бы недосягаемым для противника. Засев в гавани, он мог бы гарантировать,
что союзники не ударят в спину Германии, высадив при поддержке дредноутов
десант с Балтийского или Северного морей. Более того, продолжали рассуждать
кайзер и его советники, Британия не преминет организовать блокаду Германии.
Из истории военно-морского флота Великобритании известно, что такая блокада
будет жесткой, корабли противника станут непрерывно крейсировать в виду
германского берега. Вот тут-то и пригодится флот Открытого моря, стоящий
в полной боевой готовности. При первой же возможности он обрушится на англичан
всей своей мощью. Тирпиц с подобными рассуждениями не соглашался - Забавно
тряся своей расчесанной надвое бородой, то и дело срываясь на фальцет,
он кричал: «Кутать флот в вату — величайшая глупость!» Но кайзер его не
слушал.
Нашли человека, которого вполне устраивала
такая позиция — вице-адмирала Фридриха фон Ингеноля, и без промедления
назначили его главнокомандующим флотом Открытого моря. 14 августа Ингеноль
при вступлении в должность издал приказ, определивший стратегию и тактику
немецких военно-морских сил на следующие два года: «Нашей непосредственной
задачей является нанесение противнику ударов с использованием всевозможных
методов своего рода «партизанской войны». Эта задача ложится, главным образом,
на легкие корабли (подводные лодки, эсминцы, минные заградители и крейсера).
Те же из нас, кто служит на крупных
кораблях, должны помнить, что их первейший долг — беречь наше главное оружие
и держать его наготове, дабы в нужный момент вступить в решающую битву».
И были в этом приказе слова, глубоко запавшие в душу каждого настоящего
немецкого моряка: «Неприятель должен явиться и явится — если не сегодня,
так завтра. Вот тогда и настанет час расплаты».
В первый же день войны на море произошло
событие, подтвердившее, по крайней мере в некоторых аспектах, правильность
выбранной Германией позиции. Ранним утром 4 августа, обсудив в своем
кругу манифест об объявлении с ноля
часов войны Британии, минный заградитель «Королева Луиза» выбрал якорь
и без лишнего шума покинул бухту Гельголанд, проследовав в эстуарий Темзы,
где ему предстояло бросить свои смертоносные «зерна». А на следующее утро
новый английский 3500-тонный легкий крейсер "Амфион", возглавивший толпу
«охотников», устремившуюся в погоню за наглецом, подорвался на поставленной
мине и вместе со 131 человеком команды пошел на дно. И, хотя немецкий минный
заградитель удалось перехватить и потопить, англичане были потрясены: уж
слишком неравноценны оказались потери.
Тем не менее на Королевском флоте
царила атмосфера шапкозакидательства. В Скапа-Флоу моряки пребывали в отменном
расположении духа. В долгие летние вечера свободные от вахты матросы отправлялись
на берег, где играли в футбол. Устраивались боксерские матчи, гребные регаты,
концерты. Не забывали и про рыбалку, пикники и даже ходили в кино. В первые
дни войны все чувствовали себя братьями, и многие дела решались по-семейному.
Так, военно-полевой суд, разбиравший
дело одного матроса, опоздавшего из увольнения, вынес провинившемуся оправдательный
приговор, когда тот объяснил, что не мог забрать бушлат, чтобы не
потревожить укутанную им подружку,
а потому и не поспел на катер. «Слава Богу, не перевелись еще рыцари»,—
сказал председательствующий, закрывая заседание.
Такое благодушие исходило непосредственно
от сэра Джона Джеллико, назначенного главнокомандующим Гранд-флитом. Невысокого
роста — всего лишь пять футов шесть дюймов — с добрыми глазами, крупным
носом и приветливой улыбкой, он, как писал о Джеллико будущий премьер-министр
Стэнли Болдуин, слыл «человеком, наделенным даром редкого понимания и душевности.
К любому подчиненному, вне зависимости от его звания, был он добр и отзывчив».
Уже по-военному характеризуют Джеллико
его поклонники из числа сослуживцев. Адмирал сэр Уильям Джеймс, например,
писал, что у того есть «чувство битвы», «способность мгновенно принимать
решения в острые моменты боя». Джеки Фишер шел еще дальше: «Сэр Джон Джеллико
— будущий Нельсон,— провозглашал он.— Из всех адмиралов нашего флота он,
безусловно, самый одаренный».
Возможно, Джеллико и являлся самым
способным адмиралом британского флота, но до Горацио Нельсона ему было,
конечно, далеко. Впрочем, не успел старый Нельсон скончаться на шканцах
своего флагмана от ран, полученных в битве при Трафальгаре, как Британия
тут же ринулась подыскивать ему замену, чем и занималась уже более ста
лет. В любом мало-мальски выдающемся офицере старались подметить черты,
из которых складывался характер Нельсона,— так называемые «четыре туза»:
властность, воображение, готовность прислушаться к мнению подчиненных и
наступательный дух.
Хотя, скорее всего, и были на руках
у Джеллико первые три туза, четвертого, козырного, ему явно не хватало.
Самой сильной его картой стала поддержка со стороны Джона Фишера. Фишер
заметил
Джеллико в бытность того еще молоденьким
лейтенантом, отличником учебы, слушателем Королевского военно-морского
колледжа, где Фишер читал курс артиллерии. Джеллико и дальше продолжал
радовать своего наставника — сначала как исполнительный младший офицер,
а затем — как блестящий командир различных кораблей Средиземноморского
флота и других соединений, которыми командовал Фишер, Джеллико, в свою
очередь, столь рьяно поддерживал планы военно-морского строительства, разрабатываемые
Фишером, что заслужил у своих противников прозвище «фишеровский шакал»,
Фишер провел его в комитет по проектированию
«Дредноута» и делился с ним самыми сокровенными мыслями, называя его не
иначе как «мой любезный Джеллико». Даже уйдя в отставку в 1910 году,
Фишер продолжал протежировать Джеллико,
крайне лестно отзываясь о нем в письмах и личных беседах с Черчиллем (многие
письма были помечены грифом «по прочтении сжечь», и как они дошли до
нас, остается только гадать). Он
продвигал своего любимца, надеясь, что тот пролезет в «адмиралиссимусы,
когда грянет Армагеддон».
Когда же в августе 1914 года это
случилось, сам Фишер, подобно Тирпицу, оказался не у дел, в отставке. Его
пламенные призывы («Бей врага под дых, а когда упадет — топчи ногами»),
рожденные под сенью роз, остались не услышанными.
Что же касается нашего будущего Нельсона,
то вскоре выяснилось, что из него получится такой же драчун, как и из немца
Ингеноля — оба оказались тяжелы на подъем. Джеллико полагал, что место
флота в Скапа-Флоу, а сам факт его существования свяжет флот Открытого
моря немцев по рукам и ногам и таким образом обеспечит безопасность берегов
Британии- Патрульные же эсминцы и крейсера выйдут на просторы Северного
моря и отобьют у нейтралов всякую охоту торговать с Германией. «Было бы
самоубийством,— писал Джеллико Черчиллю вскоре после начала войны,— лишиться
превосходства в тяжелых кораблях, рискуя ими в водах, кишащих подводными
лодками противника. Уступив немцам господство на море, мы создадим серьезную
угрозу будущему страны».
Со временем такая осторожность вынудила
Фишера признать, что Джеллико недостает «искры Божьей, дерзости, столь
свойственной Нельсону». Но в высших флотских кругах все громче звучали
другие голоса, в первую очередь Черчилля и Первого Морского Лорда принца
Луи Баттенбергского. Дружным хором они, сами того не желая, вторили кайзеру
и его осторожным советникам.
Гранд-флит останется там, где стоит.
Это касается и флота Ла-Манша, чьи 19 линкоров и сонм кораблей поддержки
уютно расположились в гавани к югу от Портленда; отсюда они будут грозить
торговым судам, пытающимся пробраться в Германию через Па-де-Кале, и в
то же время обеспечивать безопасность английских транспортов, следующих
во Францию.
Тем временем старые и новые британские
корабли (последних было немного), рассеянные по всему Мировому океану,
охраняли морские пути, обеспечивая безопасность судов, доставляющих в
Британию оружие и продовольствие,
и гонялись за германскими рейдерами. Их соединения были немногочисленными,
но проку от них оказалось немало. В целом, по крупным кораблям Англия лидировала
— 177 к 87 германским. И эти цифры действовали успокаивающе: подданные
короля Георга V продолжали пребывать в твердой уверенности, что Британия
по-прежнему правит морями.
Ночью 26 августа на Финский залив
пал густой туман, и вдруг в непроглядной мгле забрезжил свет надежды. Судьба,
как это часто бывает на войне, улыбнулась одному из противников, и Англия
получила реальный шанс сохранить свое господство на море. Германский легкий
крейсер «Магдебург» наскочил на риф у северной оконечности острова Оденсхольм
в устье Финского залива и был захвачен подошедшими русскими кораблями.
На дне во время водолазных работ нашли выброшенные за борт секретные шифры,
сигнальные книги, использовавшиеся в германском флоте, карты бухты Гельголанд
и Северного моря с указанием местонахождения боевых кораблей. Документы,
хотя и оказались подпорченными соленой водой, все же читались, и русские,
верные союзническому долгу, переправили их в Великобританию.
Немцев, еще не догадывавшихся, что
их военные тайны стали достоянием противника, глубоко опечалила потеря
«Магдебурга». Но долго оплакивать его им не пришлось — вскоре представился
новый, куда более основательный, повод для скорби...
Далее
>>>