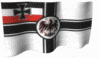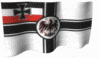|
|
|
Изрыгая
клубы дыма, "Фридрих дер Гроссе", один из новейших германских дредноутов,
открыл огонь из 12-дюймовых орудий в Ютландском сражении
|
Даже в море адмирал сэр Джон Джеллико
оставался затворником. Часами он просиживал у себя во флагманском салоне
и, нацепив на длинный нос золотое пенсне, разбирал бесконечные приказы,
рапорта, донесения. Три раза в день Джеллико спускался в кают-компанию
и, занимая почетное место за обеденным столом, был учтив, но немногословен.
Но сегодня, 31 мая 1916 года, он
изменил своим привычкам. Сорок четыре года прослужил адмирал на флоте и
все ждал своего часа. Наконец этот час пробил. Джеллико в стареньком синем
непромокаемом плаще, в маленькой, видавшей виды форменной фуражке с потускневшим
шитьем, в белом кашне, повязанном вокруг шеи, поднялся на ходовой мостик
«Айрон Дьюка». Внешне он, как и всегда, казался невозмутимым, и лишь дробное
цоканье подковок на каблуках выдавало растущее беспокойство.
Причин волноваться было предостаточно.
На его плечи легло тяжкое бремя ответственности — мало кому доводилось
нести такой груз.
Страшно подумать, что случится,
если Германия одержит победу на море и от Гранд-флита останется одно лишь
название. Морские коммуникации со Скандинавией перейдут под полный контроль
немцев. Союзная Россия окажется в изоляции. Защищать берега Британии будет
нечем, придется отзывать войска с континента, и хрупкое равновесие, установившееся
на Западноевропейском фронте, нарушится — конечно же, не в пользу союзников.
Джеллико мог предотвратить катастрофу,
но для этого ему позарез требовались сведения о противнике: количество
вымпелов, состав и координаты эскадры, ее курс и скорость. Развединформация
ценилась на вес золота. Разведчики — глаза командира, и у него много возможностей
для получения разведданных. Но одну из таких возможностей Джеллико уже
потерял, допустив досадную оплошность. Авиаматка «Кампания» стояла на якоре
у северного берега СкапаФлоу в стороне от основных сил и не могла видеть
сигнал флагмана с приказанием всем кораблям выйти в море. Лишь через два
часа там
заподозрили неладное. Наблюдатели
донесли, что кораблей на рейде Флоу нет, весь флот покинул базу. «Кампания»
снялась с якоря и на всех парах ринулась догонять своих. Но Джеллико по
радио приказал «Кампании» вернуться. Когда ему доложили, что скорость авиаматки
лишь 19 узлов, адмирал не захотел, чтобы судно, оставшееся без прикрытия,
превратилось в мишень для немецких подводных лодок. На самом же деле «Кампания»
могла развить ход до 20,5 узла, и на такой скорости быстро и без проблем
сумела бы занять свое место в строю ордера, что оказалось бы очень кстати.
Но ей пришлось
возвращаться на базу.
Собственно говоря, главная задача
адмирала сэра Дэвида Битти оставалась без изменений: доносить Джеллико
о противнике. Без этих сведений главнокомандующий предпринять ничего не
мог. С этой задачей Битти не справился. Мучительно долго тянулся день,
а Джеллико так ничего и не знал о силах немцев — донесения Битти были
неполными, невразумительными, недостоверными.
Иногда они вообще не поступали, и тогда минуты ожидания казались вечностью.
Гранд-флит на скорости 14 узлов неспешно
лавировал в сгущающемся тумане, когда в 14.18 Джеллико доставили донесение
разведчика Битти — крейсера «Галатеа», который, неожиданно наткнувшись
на дозор немцев, начал Ютландскую битву. Радиограмма гласила: «Срочно.
Вижу два крейсера, предположительно немецкие. Направление ост-зюйд-ост,
курс не установлен. Мои координаты — 56 градусов 48 минут с. ш., 5 градусов
21 минута в. д.». А затем более чем на час эфир замолчал — разведчики,
должно быть, боялись обнаружить себя.
Джеллико делал все, что мог. Он сменил
курс с юго-восточного на южный. Увеличил скорость сначала до 18 узлов,
затем до 19, а потом до 20. И наконец, приказал объявить на кораблях боевую
тревогу. Англичане развернули линейные силы в шесть походных кильватерных
колонн, параллельных друг другу, по четыре дредноута в каждой (восемь дредноутов
под флагом вице-адмирала сэра Мартина Джеррама, базировавшиеся на Кромарти,
присоединились к эскадре в начале первого пополудни). Джеллико увеличил
дистанцию между колоннами с 1500 ярдов до 2000, чтобы когда настанет время
разворачиваться в боевой порядок, у кораблей был «оперативный простор»
— пространство для маневра. Все, что мог, он сделал. Оставалось только
ждать.
И адмирал стал ждать. Лишь в 15.21
поступило новое донесение от эскадры линейных крейсеров, а затем удалось
перехватить радиограмму Битти, в которой тот сообщал флагманам соединений
свои координаты, курс и скорость. Поскольку в обычной обстановке такая
информация была излишней, то Джеллико сделал вывод, что с Битти что-то
стряслось. Но что именно? Об этом оставалось лишь гадать.
К 15.27 данных о противнике стало
больше, но и они поступали неполные и противоречивые. Перехватили донесение
с «Галатеа»: «Вижу дымы. Направление ост-зюйд-ост, курс вест-норд-вест».
Дал о себе знать и «Ноттингем», корабль из сил сопровождения Битти. На
нем тоже увидели до пяти дымов в направление ост-норд-ост. Через две минуты
опять прорезалась «Галатеа»: крейсер уходил от кораблей противника (но
от скольких и каких именно кораблей — в радиограмме не сообщалось) на северо-запад.
Из этих отрывистых кусочков информации Джеллико собрал цельную картину
и передал на эсминец «Кастор» командиру отряда эсминцев: «Наши линейные
крейсера преследуют крейсера и эсминцы противника, курс норд. Около 16.00
противник войдет в огневой контакт
с нашими крейсерами». Джеллико неправильно оценил обстановку: как раз в
это время и Битти, и Хиппер скомандовали поворот, и начался стремительный
«бег на юг».
Донесения стали поступать одно за
другим, но ситуацию они не прояснили. В 15.40 Битти наконец-то вышел прямо
на Джеллико: на норд-весте замечено пять линейных крейсеров и несколько
эсминцев противника. Ни курса, ни скорости не сообщалось. В 16.38 перехватили
донесения с двух кораблей Битти: оба командира увидели линейный флот немцев,
но расходились в определении его координат — разница в оценках составляла
25 миль. В 16.45 поступила радиограмма от самого Битти: «На зюйд-осте вижу
линейный флот противника».
Мало того, что донесение было составлено
не по уставу, при передаче флажным сигналом на «Принсесс Ройал» (радиопередатчик
на «Лайоне» вышел из строя) его исказили до неузнаваемости и в изуродованном
виде передали по радио на «Айрон Дьюк». При шифровке, передаче, ретрансляции,
расшифровке и записи в документ вкралась масса ошибок, и Джеллико доставили
сущую нелепицу: «От 26 до 30 линейных кораблей, предположительно неприятельских.
Направление зюйд-зюйд-ост. Курс зюйд-ост». И по сей день никто не может
объяснить, откуда взялись цифры — «от 26 до 30», как попали в текст данные
о курсе. Нелепо было строить предположения о
принадлежности дредноутов — они
могли быть только германскими. И держали они курс не на «зюйд-ост», а прямо
на север в направлении Джеллико. А «от 26 до 30» совсем сбило адмирала
с толку, и до самого конца сражения он так и пребывал в уверенности, что
ему противостоят куда более мощные силы, чем было на самом деле.
«Никогда еще я не чувствовал себя
таким болваном,— уже после битвы выговаривал он Битти.— Обстановка оставалась
предельно неясной. Откуда ждать противника: по носу? по корме? с какого
борта? Ничего не понять».
Наконец, в 17.55 поступило еще одно
донесение, но не от Битти, а с «Мальборо», дредноута, шедшего головным
в правофланговой колонне, где находился и сам Джеллико: "Справа по носу
вижу дульные вспышки и слышу канонаду». Через мгновение и Джеллико услышал
рев орудий, но где стреляют, определить не смог — мешал густой туман. Тут
нервы адмирала не выдержали: «Я хотел бы знать,— рявкнул он,— кто и в кого
стреляет?»
Но тут в пяти милях справа по ходу
Джеллико из серой мглы вынырнули один за другим корабли Битти. За кормой
«Лайона» по левому борту клубился густой белый дым, его орудия извергали
пламя, вокруг рвались снаряды, вздымая в небо водяные столбы. Джеллико
тут же поднял сигнал: «Где линейный флот противника?»
Битти, не снижая скорости (он спешил
увести оставшиеся у него четыре корабля под защиту орудий дредноутов),
ответил: «Немецкие линейные крейсера на зюйд-осте». Но линейные крейсера
немцев интересовали Джеллико меньше всего — ему требовались координаты
дредноутов. А Битти уже больше часа, как потерял Шеера из виду, и
потому решил, что речь идет о разведчиках.
Шеера же он увидел лишь через 13 минут и не мешкая просигналил флагману:
«На зюйд-зюйд-весте линейный флот противника». И опять — ни скорости, ни
дистанции! Раздумывать Джону Джеллико было некогда. Промедление смерти
подобно: корабли могут не успеть развернуться в боевой порядок и окажутся
беззащитными перед огнем противника.
Сигнальщик слово в слово повторил
донесение Битти. Цокая подковками, Джеллико стремительно подошел к компасу
и с полминуты молча смотрел на картушку. «Я с огромным интересом следил
за его лицом, гадая, что же он будет делать,— вспоминал флаг-капитан Фредерик
Дрейер.— Ничто не выдавало его волнения, адмирал казался решительным и
спокойным, как всегда. Он оторвал глаза от компаса, окинул нас взглядом,
и в тишине зазвенел его чеканный голос. Джеллико отдал приказание офицеру-связисту
коммандеру А. Р. У. Вудсу: «Поднять вымпел «S. Е.». В своде сигналов Королевского
флота это означало: кораблям покинуть свои места в походных колоннах, построиться
в линию и идти курсом на юго-восток. В данном случае кильватерной колонне
предстояло идти наперерез авангарду Шеера, следовавшему с юго-запада.
Но британский флот и так уже двигался
в юго-восточном направлении, и чтобы избежать путаницы — было неясно, на
какую фланговую колонну равняться — Вудс предложил: «Сэр, вы не хотите
уточнить курс? Если взять еще один румб лево, станет ясно, что равняться
надлежит по левому флангу». Джеллико немного подумал и сказал: «Отлично.
Распорядитесь поднять сигнал «Зюйд-ост тень ост».
Таким образом Джеллико внес ясность:
линию выстроить по левой колонне, во главе которой следовал «Кинг Джордж
V». Когда на кораблях Гранд-флита отрепетовали сигнал флагмана, Джеллико
отдал распоряжение: «Дрейер, командуйте к перестроению».
|
|
18.00-18.30.
Шеер ведёт
свои колонны на свер на помощь вступившим в бой линейным крейсерам во главе
с "Лютцовом". Британцы подбивают крейсер "Висбаден". Немцы топят "Дифенс"
и обрушиваются на "Уорриор". Дредноут "Уорспайт", у которого заклинило
руль, кружит как безкмный. Он отвлекает на себя огонь с "Уорриора". Тем
временем Джеллико мастерски разворачивает флот, пересекая курс Т-образной
колонны Шеера. В 18.30 авангард Шеера попадает под огонь 24 дредноутов
англичан. Отвечают лишь головные корабли немцев, остальные ещё не подошли
на дистанцию выстрела. В продолжающейся перестрелке немцы топят "инвинсибл". |
Развертывание флота в боевой порядок
проходило следующим образом. Левофланговая колонна курса не меняла. Лидеры
остальных пяти колонн, а за ними и их ведомые, дали два коротких гудка
и взяли 90 градусов лево, а затем — 90 градусов право и таким образом выстроились
в кильватерную колонну, растянувшуюся почти на семь миль (см. карту). Принимая
такое решение, Джеллико действовал почти инстинктивно. Его задачей было
пересечь курс Шеера и стать к нему под углом в 90 градусов — в таком случае
англичане могли бы вести огонь из всех орудий всех 24 дредноутов, тогда
как немцы, построившие свои порядки в виде буквы Т, могли отвечать лишь
огнем носовых башен. Но Джеллико до обидного мало знал о координатах Шеера,
скорости и курсе его кораблей. Принимая решение развернуть свой флот по
левому флангу, Джеллико исходил из предположения, что противник идет с
юго-запада и дистанция до него около пяти миль. В этом случае британцы
выигрывали время и получали простор для маневра. Если бы они стали развертываться
по правому флангу, то приближающийся противник мог бы застигнуть их в середине
маневра и открыть по ним огонь.
В начале седьмого вечера 24 дредноута
Джеллико закончили маневр, перестроившись в линию по дуге почти 90 градусов
с севера на восток. 15 немецких дредноутов шли с юга кильватерной колонной,
возглавляемой «Фридрихом дёр Гроссе». Шеер все еще не знал, что его ждет.
Противники готовились к бою, и изрядно потрепанные в первой схватке линейные
крейсера, крейсера и эсминцы, обгоняя главные силы, спешили занять свое
место в строю: англичане — на фланге Джеллико, немцы — в авангарде Шеера.
Свои маневры силы прикрытия сопровождали бешеной стрельбой. Место, где
сошлись два
исполина, находится в районе 56
градусов 57 минут с. ш. и 5 градусов 43 минут в. д. Эта пустынная акватория
в Северном море приблизительно в 85 милях от полуострова Ютландия будет
прозвана «Гнилой угол» — у английских моряков это означает «Гиблое место».
«Море ходило ходуном,— писал офицер
с «Саутгемптона».— Две сотни самых разных судов, идущие на огромной скорости,
подняли сильную зыбь». Хотя главные силы Шеера все еще оставались за горизонтом,
и без них было на что посмотреть. «Легкие крейсера и эсминцы,— вспоминал
офицер с «Малайи»,— крутились и вертелись, обходя друг друга и тяжелые
корабли. Не перестаю удивляться тому, что так мало кораблей было подбито
и как удалось избежать столкновений».
Будут и подбитые корабли, будут и
столкновения. Вскоре море покроется «отходами военного производства»: пылающими
кораблями, огромными пятнами горящей нефти, тонущими людьми, 3-я эскадра
линейных крейсеров под флагом контр-адмирала сэра Хораса Худа вывела из
строя германский крейсер «Висбаден» и, не добивая его, пошла дальше. С
мостика броненосного крейсера «Дифенс» беспомощный «Висбаден» заметил контр-адмирал
сэр Роберт Арбутнот и тут же двинул на него все свои силы — «Уорриор»,
«Блэк Принс» и «Дьюк оф Эдинбург». За этим убийством наблюдали команды,
по крайней мере, пятидесяти кораблей — кто со злорадством, а кто с ужасом.
Арбутнот лихо прошел мимо «Висбадена»
с севера на юг, и тут его заметили на линейных крейсерах и головных дредноутах
немцев. Дистанция оказалась подходящей, и все четыре броненосных крейсера
попали под сильнейший огонь противника. «Уорриор» и
«Блэк Принс» получили серьезные
повреждения, но остались в строю. «Дьюк оф Эдинбург» отделался царапинами.
«Дифенс» же Арбутнота был обречен. Один за другим прогремели три залпа
германских 12-дюймовок — недолет, перелет, попадание. Крейсер
ушел носом в воду, но выправился
и пошел дальше. Еще три залпа, и опять — недолет, перелет, попадание. «Дифенс»
исчез в сплошной массе брызг, дыма и огня,— писал очевидец.— На первый
раз обошлось без видимых повреждений. Но через несколько
секунд все повторилось — крейсер
пропал в бушующем пламени и густой туче черного дыма. Оттуда, крутясь,
как юла, вылетел какой-то темный предмет — то ли шлюпка, то ли труба. Дым
взметнулся на высоту нескольких сотен футов. Когда же он рассеялся,
корабля на поверхности воды не оказалось».
Адмирал Арбутнот и все 900 человек команды «Дифенса» погибли.
В то время как «Дифенс» шел в свой
последний бой, с запада в «Гнилой угол» ворвались линейные крейсера Битти
и чуть было не столкнулись с броненосными крейсерами Арбутнота. Пришлось
резко поворачивать. «За те десять минут,— свидетельствовал очевидец,— был
продемонстрирован такой класс управления, о каком раньше на флоте и не
мечтали».
Сумятицу внес «Уорспайт», один из
четырех супердредноутов, на вооружении которых стояли 15-дюймовые
орудия. Весь день они шли по корме Битти. Затем последовал приказ оставить
Битти и занять место в арьергарде линии Джеллико. Эскадра направлялась
на северо-северо-восток, и тут «Уорспайт» получил серьезное повреждение
— заклинило руль. Минут пятнадцать дредноут двигался с прежней скоростью
— 25 узлов и, описав два гигантских круга, оказался в 10000 ярдов от головных
кораблей колонны Шеера. Если у кого-либо раньше и возникали сомнения в
крепости брони дредноутов, то теперь
они полностью развеялись. Пока «Уорспайт»
кружился на месте, на него обрушился огонь с «Фридриха дёр Гроссе», «Кенига»,
«Гельголанда», «Остфрисланда», «Тюрингена» и «Кайзерины». В корабль попало
тринадцать снарядов, но вывести его из строя не удалось. Если бы не поврежденные
рули, адмирал Хью Эван-Томас, командующий эскадрой, ни за что бы не отдал
приказ «Уорспайту» возвращаться на базу. Когда дым рассеялся, немцы увидели,
что корабля нет, и решили что он затонул. Однако поврежденный дредноут
благополучно прибыл на базу, чудом избежав в пути торпедной атаки.
Подготовка к сражению, таким образом,
завершилась. В 18.30 дредноуты противников увидели друг друга. Джеллико,
стоявший на мостике «Айрон Дьюка» (теперь он занимал место в середине боевого
порядка англичан), заметил смутно вырисовывавшиеся в густом тумане силуэты
головных германских кораблей. Шеер шел с юго-запада под прямым углом к
линии англичан и оказался именно там, где это требовалось Джеллико. Тот
своевременно и правильно paзвернул свои силы. Ради этого стоило ждать два
года — немцам навязан бой и Джеллико встречает их классическим маневром:
боевые порядки
англичан пересекают курс Т-образной
колонны противника. «Айрон Дьюк» и с десяток других кораблей не мешкая
открывают огонь по смутным теням.
Для Шеера все это оказалось полной
неожиданностью. Вот уже в течение получаса с крейсеров поступали противоречивые
донесения о тяжелых кораблях англичан — то здесь, то там в туманной пелене
и клубах дыма мелькали их неясные силуэты. Первое, что увидел сам Шеер,—
это огненные вспышки тяжелых орудий на горизонте прямо
по ходу флагмана. В бой вступило
свыше ста орудий противника. Самих кораблей не было видно, их выдавали
лишь вспышки залпов. На морем с севера на восток протянулась огненная дуга.
Шеер поставил англичанам ловушку,
а сам попал в другую. С точки зрения тактики худшего положения быть не
могло. Любой британский дредноут мог вести огонь из всех орудий по головным
линейным крейсерам и дредноутам колонны Шеера. Более того, видимость с
стороны англичан была лучше. Перед тем, как отдать приказ на развертывание,
Джеллико спросил командира своего флагмана, каким курсом, по его мнению,
следует двигаться, чтобы обеспечить себе лучшую видимость противника, идущего
на север. «Я доложил,- вспоминает кэптен Дрейер,— что лучше будет просматриваться
юг, по мере захода солнца зона наилучшей видимости будет смещаться
на запад». Расчет оказался правильным,
и Джеллико сполна вкусил плоды своей предусмотрительности. История сохранила
донесение Шеера: «Наш авангард попал под огонь тяжелых кораблей противника,
вытянувшихся в бесконечную линию с северо-запада на северо-восток. Стреляли
беспрерывно, залп следовал за залпом. Все это производило весьма тягостное
впечатление, тем более что отвечать англичанам мы практически не могли
— в дыму и тумане их дредноутов было не видно».
За десять минут англичане дали сорок
залпов. Двенадцать снарядов накрыли цели — получили повреждения дредноуты
«Маркграф и «Кениг» и линейные крейсера «Лютцов» и «Дерффлингер». «Лютцов»,
получивший за весь день двадцать попаданий, боролся за живучесть, а «Кениг»,
головной дредноут Шеера, накренился на 4,5 градуса. Георг фон Хазе, командир
артиллерии на «Дерффлингере», позже напишет: «Было ясно, что противник
видит нас лучше, чем мего. Несколько тяжелых снарядов с удивительной легкостью
прошили нашу броню и разорвались со страшным грохотом. Задрожали
буквально каждый шов и каждая заклепка».
То, что случилось дальше, команда
«Дерффлингера» была вправе счесть за промысел Божий. В одном месте чертов
туман внезапно рассеялся, и в конце залитого солнцем коридора немцы увидели
линейный крейсер «Инвинсибл», флагман адмирала Худа. «Его орудия были наведены
прямо на нас,— писал Хазе.— Залп не заставил себя ждать. Нас накрыло. «Дистанция
9 тысяч ярдов»,— услышал я хриплый голос старшины Хемеля. «Дистанция 9
тысяч ярдов, залпом. Огонь!» — скомандовал я и, весь дрожа от нетерпения,
стал ждать разрывов. Перелет. «Есть два попадания!» — закричал капитан-лейтенант
фон Стоуш. Я скомандовал: «100 ниже, товсь! Огонь!» Между
залпами не прошло и тридцати секунд.
И опять два попадания, но и два недолета. А затем, вот уже третий раз за
день, мы стали свидетелями жуткого зрелища: с «Инвинсибл» случилось то
же самое, что с «Куин Мэри» и «Дифенсом».
|
|
|
Со
дна мелкого Северного моря выступают корма и нос - это то что осталось
от британского линейного крейсера "Инвинсибл. Несколько залпов тяжёлых
орудий один за другим накрыли крейсер. Яркая вспышка, взрыв и он разломился
пополам, а через две минуты затонул. Поражённый увиденным, очевидец писал:
"Только что это был флагманский корабль, ведущий эскадру, - и вдруг он
превратился в два куска искорёженного металла".
|
Один за другим прогремели несколько
взрывов; мачты рухнули, в воздух полетели обломки; в небо взметнулся гигантский
столб черного дыма; корабль раскололся на части; уголь из бункеров разметало
во все стороны. Густая пелена дыма как саван окутала вражеский корабль.
Я закричал в телефонную трубку: «Противник взорвался!» Перекрывая шум боя,
по кораблю прокатилось «Ура!» — новость по общекорабельной трансляции бьша
передана с мостика на все посты. Я вознес страстную молитву Всевышнему».
«Инвинсибл» стал третьим британским
кораблем, погибшим от взрыва артиллерийских погребов. Он разломился пополам,
и обе части затонули. Глубины в этом месте небольшие, и корма и нос крейсера,
воткнувшись в дно, вздымались над водной поверхностью почти под прямым
углом, как два могильных камня. Так они простояли полчаса, отмечая место
гибели сотен моряков. Через несколько минут после трагедии мимо мрачных
памятников прошел на «Айрон Дьюке» Джеллико. «Наши обломки?» — запросил
он оказавшийся поблизости эсминец. «Так точно,— ответили ему.— Это «Инвинсибл».
Эсминец «Бэджер» спас с крейсера
двух офицеров и четырех матросов; остальные 1026 человек команды и державший
на крейсере свой флаг адмирал Худ погибли.
Но ликовать по поводу победы над
«Инвинсиблом» Хипперу было некогда, да и не с чего: все его линейные крейсера
получили серьезные повреждения, а в носовом отделении флагмана «Лютцов»
возник пожар; корабль сильно накренился, зарылся носом в воду, захлестывающую
бак. Штаб стал умолять Хиппера перенести свой флаг на другой корабль. Но
адмирал поначалу отказывался: «Я не могу бросить свой флагман».— «Он тонет,
ваше превосходительство».— «Я же сказал, что не могу».— «Вы нужны флоту!»
Лишь после этого Хиппер согласился перейти на эсминец сопровождения. «Лютцов»
покинул строй и на малой скорости пошел на юг, надеясь добраться до базы.
А командующий эскадрой линейных крейсеров германского флота начал свою
одиссею в поисках нового флагмана.
Первым по курсу оказался «Дерффлингер».
Хиппер просемафорил: «Командиру до особого распоряжения принять командование
эскадрой». Но «Дерффлингер», как выразился сам Хиппер, «являл собой печальное
зрелище». На мачтах болтались перепутанные обрывки снастей и радиоантенн
— подать с него сигнал было невозможно.
А в корме по ватерлинии зияла пробоина
«шесть на пять метров», и при крене на левый борт в трюмы поступала вода.
Вскоре он вообще был вынужден застопорить машину: оборванная взрывом противоторпедная
сетка могла намотаться на винты.
Затем Хиппер проследовал к «Зейдлицу».
На баке вода залила среднюю палубу, радиосвязь не работала. На «Фон дёр
Танне» башни не вращались, не подавалась электроэнергия, но он мужественно
оставался в строю, причем лишь для того, чтобы отвлечь на себя огонь противника.
Из всех пяти линейных крейсеров Хиппера на роль
флагмана — с большими натяжками
— годился лишь «Мольтке». Но подхваченный вихрем боя Хиппер лишь в 21.50
поднялся на борт крейсера и вновь принял командование эскадрой.
Шеер оказался в не менее отчаянном
положении. Когда Гранд-флит пересек его курс, германские дредноуты находились
в пределах досягаемости противника, и немцы, не выдержав стального града,
дрогнули. Один за другим их дредноуты стали забирать на восток и ложиться
на курс, параллельный британцам. Интенсивность огня возрастала, причем
на стороне англичан имелось численное превосходство, их орудия стреляли
дальше немецких, а видимость с их стороны была лучше. К тому же Шеера обременяли
шесть линкоров — тихоходные и неповоротливые старые калоши со слабым вооружением
— лишь по четыре 11-дюймовых пушки на каждом. Перед Шеером встал выбор:
либо бросить их на произвол судьбы, либо выходить из боя. К чести его,
раздумывал он недолго. В 18.30 на «Фридрихе дёр Гроссе» взметнулся сигнал
«Боевой разворот на обратный курс, право на борт».
Это был необычный маневр. Корабли
поворачивали на 180 градусов, а произвести разворот требовалось в считанные
минуты. Обычно, когда для развертывания флота в боевой порядок необходим
поворот, корабли меняют курс последовательно, один за другим, начиная с
головного. Поворот осуществляется в определенной точке. При таком
маневре вероятность столкновения
судов сведена к минимуму, но имеется и существенный недостаток — в момент
поворота корабль, подставляя борт противнику, превращается в великолепную
мишень и попадает под сосредоточенный огонь. Шеер же приказал делать поворот
на 180 градусов одновременно «всем вдруг». Это требовало ог-
ромного мастерства и сноровки. Но
боевая подготовка на флоте Открытого моря всегда находилась на высоте,
и, продемонстрировав великолепную выучку, команды безукоризненно провели
сложный маневр (см. схему). На этом первый этап единоборства дредноутов
закончился. Длительность его не превысила тридцати минут.
|
|
18.30-19.00.
Не видя возможности
противостоять огню британцев, в 18.33 Шеер отдаёт приказ - поворот на 180
градусов - "Кругом марш!", иначе и не скажешь. Его действия и по сию пору
вызывают восторг у историков флота. В резкльтате безупречно проведенного
маневра немцы мгновенно исчезают в пелене спасительного тумана. Джеллико
опасаясь что немцы успели поставить мины, перестраивает свои корабли в
походную колонну и берет курс на восток, а потом на юг, намареваясь зайти
во фланг противнику и отрезать его от баз. Немцы уходят от бритенцев, но
уже через 20 минут Шеер принимает решение возобновить бой и опять командует
поворот на 180 градусов. Корабли разворачиваются и идут на сражение с противником |
Маневр Шеера застал англичан врасплох.
Только что Джеллико видел противника, и вдруг тот исчез. «Я находился в
штурманской рубке, а оттуда не было видно, что делает противник,— писал
он.— Я подумал, что сгустился туман и видимость ухудшилась, но через две
минуты стало ясно, что дело неладно». Джеллико связался с «Мальборо», головным
кораблем арьергарда: «Противника видите?» И с «Мальборо» ответили: «Пока
нет».
После Ютландского сражения адмирал
Джеллико подвергся резкой критике за то, что выпустил противника из виду
и не сумел воспользоваться огромным численным превосходством. Немцев следовало
бы догнать и разгромить. Но отдадим ему должное — еще давнымдавно адмирал
уведомил высшее командование о том, что он будет и
чего не будет делать в такой ситуации.
30 Октября 1914 года Джеллико направил в Адмиралтейство письмо: «Если,
например, линейный флот противника развернется и станет уходить от наших
сил, то я буду рассматривать его маневр как попытку заманить нас на минные
поля и подставить под торпеды подводных лодок. На уловки врага я
не поддамся. Я отдаю себе отчет
в том, что многие не поймут такой тактики, и это навлечет позор на мою
голову. Но коль скоро мне доверен бесценный флот, я считаю, что это единственно
верный способ сохранить его, и к такому выводу я пришел не в силу малодушия,
а по здравому размышлению». Письмо рассматривалось на совете Адмиралтейства,
и тактика Джеллико получила одобрение, хотя не исключено, что на заседании
присутствовал и тогдашний Первый Лорд Уинстон Черчилль, приверженец атакующей
доктрины.
Немцы и не думали ставить мины у
себя за кормой — уж больно велика была опасность самим подорваться на них.
Не имелось у Шеера и подводных лодок. Но откуда Джеллико мог об этом знать?
Тем более что опасения насчет подводных лодок вроде бы подтвердились: не
прошло и нескольких минут после отхода Шеера, как «Мальборо»
получил в борт торпеду. Джеллико
всюду мерещились подводные лодки противника и, естественно, все свалили
на них. Хотя, скорее всего, торпеду выпустил немецкий крейсер «Висбаден»,
который тонул, но держался на плаву и дерзко огрызался. В борту «Мальборо»
зияла 70-футовая пробоина и корабль накренился на 7 градусов. Впоследствии
крен удалось несколько выправить, подтопив отсеки по левому борту. Скорость
упала до 17 узлов, и корабль потащился на базу.
Поражения «Мальборо» хватило за
глаза. Джеллико отказался от преследования Шеера и взял курс на юг, надеясь
отсечь флот Открытого моря от баз. Это решение дорого обошлось адмиралу
— позор все-таки пал на его голову, как он и предрекал в письме в Адмиралтейство.
Досталось и Битти. Последнего обвинили в том, что он даже не попытался
возобновить бой. Но Битти всю вину свалил на Джеллико. «Почем нам было
знать,— оправдывался он,— что как только мы выведем немецкий линейный флот
на наши главные силы, Джеллико тут же упустит его. А вести бой с дредноутами
противника отнюдь не входит в задачу линейных крейсеров, особенно если
те действуют в одиночку, и уж тем более когда главнокомандующий отходит
со всеми своими силами».
Оставим теоретикам судить о правильности
действий английских адмиралов, на исход битвы их решения повлияли мало.
В 18.55, всего лишь через 20 минут после стремительного выхода из боя,
Шеер вновь меняет курс и опять идет на сближение с противником. И тут судьба
преподносит Джеллико редчайший подарок, о каком на войне
можно лишь мечтать — второй шанс.
Почему Шеер поступил именно так,
а не иначе, остается загадкой. Доводы, изложенные им в официальном рапорте,
убедительными счесть нельзя: «Ранний час не позволял нам начать перестроение
в походный порядок. Противник мог перехватить инициативу, навязать нам
бой еще до наступления темноты и в конечном итоге отрезать нас от Гельголанда.
Воспрепятствовать этому мы могли лишь одним способом: нанести противнику
упреждающий удар, начать новую атаку, как бы там ни складывались обстоятельства.
Необходимо было ввести в бой все наши эсминцы». В частных беседах Шеер
нес совсем уж полную ахинею. «Я хотел помочь несчастному «Висбадену»,—
сказал он своим офицерам после битвы.— Не бросать же его на произвол судьбы».
Но каковы бы ни были причины, результат
оказался весьма плачевным. Линейные крейсера 1-й разведывательной группы
под командой капитана первого ранга Йоханесса Хартога, командира «Дерффлингера»
(Хиппер все еще не мог найти нового флагмана),
опять вступили в бой. И тут же стало
ясно, что Шеер — наверное, впервые в истории морских сражений — умудрился
второй раз в ходе одной битвы подставиться противнику. Англичане вновь
пересекли курс его колонны (см. схему).
8«Авангард нашего флота оказался
в полукольце вражеских кораблей,— писал Хазе с «Дерффлингера».— Мы попали
в ловушку, расставленную по всем правилам». Линейные корабли британцев
«Сент-Винсент», «Нептун», «Ревендж» и «Эйджинкорт» открыли огонь. На «Дерффлингере»
все заходило ходуном. В 19.12 из густой мглы вышли дредноуты Шеера, спешившие
на помощь своим линейным крейсерам.
На оценку обстановки Шеер потратил
не больше минуты — этого времени вполне хватило, чтобы понять всю безнадежность
положения. Выход оставался один: развернуть дредноуты и уйти под спасительное
прикрытие тумана. Арьергард получает приказ прикрыть отход и вступить в
бой с противником. Линейные крейсера, по которым
британские дредноуты ведут беглый
огонь главным калибром, читают сигнал флагмана: «Rein in dem Feind! Ran!»
— «Прямо по противнику! Товсь!»
Без колебаний и не мешкая, немецкие
корабли пошли выполнять поставленную задачу. Мужество, проявленное их командирами
и матросами, и по сию пору глубоко трогает морскую душу. Линейные крейсера,
на которых не оставалось живого места, один за другим ринулись на извергающие
огонь корабли противника. Головным шел
«Дерффлингер», за ним — «Зейдлиц»
и «Мольтке». Замыкал строй «Фон дёр Танн» — его орудия вышли из строя,
стрелять он не мог, но и бросать в беде товарищей не собирался.
Черпая обоими бортами воду, «Дерффлингер»
приблизился к «Колоссусу», дредноуту, шедшему семнадцатым в ордере англичан.
Каким-то образом он все же умудрился послать в цель два снаряда, причинив
противнику незначительные повреждения и ранив шесть человек. И жестоко
поплатился за свою дерзость. Вахтенный офицер на «Колоссусе» сделал в журнале
лаконичную запись: «Справа по носу в 10000 ярдах замечен линейный крейсер
класса «Лютцов» в сопровождении двух других тяжелых кораблей. Противник
открыл огонь с дистанции 9000 ярдов, сократив ее в 19.16 до 8400. Мы ответили
пятью залпами. Засек не менее пяти прямых попаданий. Корабль противника
вспыхнул, накренился и исчез в пламени».
Снаряд с «Колоссуса» пробил броню
одной из башен «Дерффлингера» и разорвался внутри ее. Вспыхнули пороховые
заряды, высоко в небо взметнулось пламя. Из 78 человек артиллерийской прислуги
в живых осталось только 5. Вскоре накрыло другую башню. «Нам довелось заново
пережить кошмар,— вспоминает Хазе.— В одно мгновение погибли 80 человек
команды башни, включая и прислугу погребов. Уцелел лишь один. С палубы
сорвало броневые плиты, и они кружились в воздухе, как пушинки. Взрывной
волной смело за борт все, что могло быть сметено. От штурманской рубки
не осталось и следа».
Тут Шеер принимает новое решение
и приказывает еле живым линейным крейсерам «вступить в бой с авангардом
противника». Хартог с «Дерффлингера» командует поменять курс с оста на
зюйд при скорости 23 узла. Линейные крейсера безропотно начинают маневр
и оказываются абсолютно беспомощными перед бортовыми залпами
британцев. Получили попадания «Зейдлиц»
и «Фон дёр Танн», шесть снарядов накрыло «Дерффлингер». Наконец им удалось
вырваться из огненного котла и скрыться за дымовой завесой, поставленной
немецкими эсминцами.
 |
Получив
серьёзные повреждения и осев чуть ли не по самую верхнюю палубу, германский
линейный крейсер "Зейдлиц" плетётся домой после Ютландской битвы. В корпусе
зияют 22 пробоины - следы попадания тяжёлых снарядов и торпеды. Временами
его скорость падает до 7 узлов и крейсер безнадёжно отстаёт от главных
сил уходящих на 16 узлах. Израненный "Зейдлиц" шёл всю ночь 31 мая, умудрившись
проскочить мимо, по крайней мере. пяти кораблей противника и, наконец,
очутился в безопасности, войдя в свои воды. |
Хотя главный удар пришелся по этим
безумным храбрецам, досталось и дредноутам Шеера. «Кениг» погрузился носом,
а «Гроссер Курфюрст» накренился на 4 градуса с дифферентом на нос, причем
вода доходила до главной палубы. В 19.18 Шеер отдал приказ своим героическим
линейным крейсерам прекратить бессмысленное наступле-
ние, а эсминцам произвести торпедную
атаку, прикрыв отход всех сил.
С британских дредноутов было хорошо
видно, как идут германские эсминцы. Офицер с «Конкерора», седьмого корабля
в строю англичан, писал, что эти юркие и смертельно опасные корабли ежеминутно
меняли курс, постоянно «крутились, вертелись, лавировали, исчезали в дыму,
тут же появлялись совсем в другом месте, и стрелять
по ним было бессмысленно — попробуй-ка
попасть в бекаса не зарядом дроби, а пулей». Английские эсминцы получили
приказ перейти в контратаку, немцы поставили завесу, и вскоре все утонуло
в дыму. А затем появились трассы немецких торпед.
Если тяжелый корабль развернуть по
ходу торпеды, у него появляется больше шансов избежать попадания. Можно
стать к ней носом и попытаться уйти в сторону. Но по уставу Королевского
флота полагалось разворачиваться кормой и уходить от торпеды по траектории
пуска. Считалось, что так безопаснее: во-первых, можно успеть выйти за
пределы дальности действия торпеды, а во-вторых, в любом случае торпеда
потеряет скорость, и кораблю будет легче уйти от нее, совершая маневр уклонения.
Джеллико дал приказ своим дредноутам отвернуть от торпед противника — а
таким образом и от отступающего флота Открытого моря.
Торпедная атака немцев вызвала переполох,
но сколько-нибудь ощутимого ущерба не нанесла. В распоряжении противника
имелось до 50 эсминцев, вооруженных приблизительно 250 торпедами. Но англичане
встретили их плотным орудийным огнем и контратакой, так что лишь 13 немецких
миноносцев и торпедных лодок смогли занять
огневые позиции и подойти к строю
англичан на дистанцию предельной дальности — 7500 ярдов. Всего была пущена
31 торпеда, из них до противника дошла 21, но дредноутам удалось уклониться,
и попаданий не было.
Англичан ждал приятный сюрприз —
торпеды неприятеля оставляли за собой заметный след в виде пузырьков воздуха.
Сами англичане уже давно исправили этот недостаток, и разведка доносила,
что и немцы пошли по такому же пути. Отнюдь! Впередсмотрящие замечали немецкую
торпеду за две мили, и за это время даже тяжелый корабль успевал уклониться.
Но в некоторых случаях избежать попадания удалось буквально чудом. Одна
торпеда прошла прямо за кормой «Нептуна». Со своего поста на фок-мачте
наблюдатель, молодой лейтенант, заметил другую, идущую прямо на них. «Право
на борт!» — заорал он в переговорную трубу. Стоявший рядом с ним мичман
вспоминает, что произошло дальше: «Мачта затряслась и застонала — ей передалась
вибрация от машин. Корабль на полной скорости, положив рули до отказа,
резко повернул, подставив торпеде корму. Туда она и шла. Нам оставалось,—
пишет гардемарин,— только ждать. Ждали долго. Однако ничего не происходило.
По всем расчетам торпеда давно уже должна была попасть в корму и разнести
ее вдребезги. А взрыва все не было и не было». Случилось чудо, хотя командир
корабля объяснил все куда более прозаически: «Торпеду отклонила от траектории
кильватерная струя «Нептуна», или же она выработала ход. Последнее более
вероятно».
В 19.31 торпедная атака закончилась,
эсминцы исчезли в дыму, и гигантские пушки «Айрон Дьюка» замолчали. Палить
вслепую и с досады было не в обычаях Джеллико. Хотя причин для злобы хватало.
По престижу британских военно-морских
сил был нанесен страшный удар. От кого бежал Гранд-флит? Чего испугался?
Такого соотечественники адмиралу не простят, и в 19.40 он отдает приказ
кораблям возобновить преследование. Но немцы успели уйти. Вторая стычка
дредноутов продолжалась не более четверти часа. Ни одного линейного корабля
противники не потеряли.
Большинство воспоминаний о Ютландской
битве написано людьми, которые лично наблюдали все сражение или его отдельные
эпизоды.
Но сто пять тысяч ее непосредственных
участников при всем желании ничего видеть не могли. Они находились в «подпалубных
помещениях»: кочегары и машинисты, санитары и врачи, матросы из дивизионов
живучести и пожарные расчеты, радисты и шифровальщи-
ки, прислуга артиллерийских погребов
и башен. На их долю выпали поистине нечеловеческие страдания — ведь они
сражались вслепую.
«В корме раздался страшный взрыв,
корабль сильно тряхнуло, и почти все лампы погасли,— пишет механик броненосного
крейсера «Уорриор», получившего серьезные повреждения в самом начале битвы.—
Машины работали, из чего я заключил, что цилиндры пока целы. Но в отделении
бурлил поток, настоящая Ниагара, и в полутьме
я никак не мог понять, откуда хлещет
вода — сверху или снизу. Но это не имело никакого значения — в лицо мне
ударила струя горячего пара, и я понял, что медлить нельзя. Оценив обстановку,
я понял, что никакими помпами такой объем воды не откачаешь, и единственное,
что остается делать,— эвакуировать команду».
Два машинных отделения — носовое
и кормовое — сообщались между собой водонепроницаемой дверью, но ее заклинило,
и отдраить ее не удалось. Избрали другой путь — по мостику над цилиндрами
паровой машины. Погасли последние лампочки. Офицер пошел первым, держась
за леера ограждения. По носу имелась еще одна дверь.
Наконец добрались до нее. В кромешной
тьме он нащупал ручку задрайки, повернул ее... В отделение ворвались слепящий
огненный смерч и клубы черного дыма. Наверху пылала жилая палуба. Впереди
— море огня, позади — ревущий пар. «Я почувствовал себя как
мышь в мышеловке — деваться некуда,
открыть тяжелые бронированные люки, ведущие наверх, нам ни за что не удастся.
Меня охватил животный ужас. Кто-то окликнул меня. Оказывается, матросы
заметили свет, пробивающийся в отделение, и через какую-то минуту я уже
лез на палубу через пробоину с рваными краями».
Всего «Уорриор» получил тринадцать
попаданий, и два часа трюмная команда боролась с пожаром. Ко второму машинному
отделению было не пробиться — на пути спасателей бушевало море огня.
Из вентиляционных труб били струи
горячего пара. Командир вдруг понял, что вся команда левого отсека погибла,
и содрогнулся от ужаса. Когда же наконец исхитрились отдраить один из бронированных
люков, то, к изумлению спасателей, из трюма донеслись крики.
Команде машинного отделения правого
борта добраться до трапов не удалось — вода стояла им по грудь, а ходящие
кривошипы машин гнали мощную волну. Цепляясь за трубы и конденсаторы, матросы
вскарабкались на машину и стояли там, крепко взявшись за руки. В одиночку
среди бурлящих водоворотов удержаться было невозможно.
Несколько человек оказались сметены
потоком; их затянуло в машину, и они погибли. Восьмерым удалось добраться
до вентиляционной решетки, но поднять ее они не смогли. Несчастные оказались
в ловушке — вода все прибывала, бурлила, отойти они уже не могли, хлестал
горячий пар, и матросы брызгали себе в лицо грязной масляни-
стой водой, чтобы хоть как-то уберечься
от ожогов. Царила кромешная тьма, положение казалось безнадежным. Они вцепились
друг в друга, но силы были на исходе. Один за другим несчастные падали
в воду и тонули. Когда наконец отдраили люк, спасти удалось лишь троих.
Эти люди выжили и поведали нам свою
историю. Но сотни и сотни погибли на «Уорриоре» и других кораблях. Выбраться
из своих отсеков им не удалось. После битвы на свет божий извлекут тела
— утонувших, обгоревших, сварившихся заживо, задохнувшихся, убитых наповал
— последним повезло больше всех.
Для англичан наступившая темнота
стала сущим проклятием. До войны Королевский флот провел близ Виго у берегов
Испании ночные учения: они продемонстрировали полную неготовность британцев
к ночному бою. Один офицер, принимавший в них участие, писал: «Глядя на
наших прожектористов, можно было лопнуть со смеху». Джеллико, с грустью
взиравший на действия своего флота, укрепился в уверенности, что ночной
бой — это лотерея, а играть в азартные игры он не любил. Ночной бой, где
велик фактор случайности, повышал шансы более слабого противника и сводил
на нет превосходство англичан в дальнобойности корабельной артиллерии.
Поэтому Адмиралтейство предписало флоту от ночного боя уклониться, а с
рассветом навалиться на противника всеми силами. В рапорте, поданном после
Ютландской битвы, Джеллико писал: «Я сразу же отверг идею ночного боя между
тяжелыми кораблями, как чреватую катастрофическими последствиями, во-первых,
в силу наличия у противника огромного количества торпедоносных средств,
а во-вторых, по причине невозможности отличить свои корабли от неприятельских».
|
|
21.30-22.00
Джеллико на
всех парах идёт на юг, надеясь отрезать отступающих немцев от баз. Шеер
знает что обогнать британцев ему не под силу, по этом у прокладывает курс
на юго-восток, надеясь что противник пройдёт перед ним, не заметив в темноте
немецкую колонну. Шесть линкоров во главе с "Ганновером", лёгкая добыча
для неприятеля, ложатся в дрейф и ждут, когда пройдут главные силы, чтобы
занять своё место в конце колонны, где безопаснее. Тем временем британские
линейные крейсера во главе с "Лайоном" идут на юго-запад и пытаются навязать
противнику бой, но после короткой перестрелки теряют немцев из вида. |
Немцам же ночь давала огромные преимущества:
в отличие от англичан они научились действовать в темноте, широко используя
осветительные снаряды, которые высвечивали корабли противника, не выдавая
своих позиций. У немцев имелись более мощные и более совершенные прожектора:
тонкий луч метался по морю, выискивая противника; после обнаружения цели
прожекторист открывал жалюзи, вражеский корабль попадал в сноп света —
и тут же по нему открывался огонь. Ничего подобного у англичан не было.
Но самое важное, на флоте Открытого моря разработали великолепную систему
ночных опознавательных огней: каждое
судно на запрос отвечало передачей определенной комбинации световых сигналов;
не успев зажечься, они тут же гасли, и разобрать их англичане просто не
успевали, не говоря уже о том, чтобы имитировать сигнал с целью ввести
противника в заблуждение. На Королевском же флоте опознавательные сигналы
кодировались по системе Морзе, на их передачу уходило много времени, и
противник успевал их записать и использовать в своих целях.
Спустилась ночь. В ходе дневного
боя британский флот оказался к востоку от немцев, отрезав Шеера от баз.
Такое положение относительно сил противника более чем устраивало Джеллико,
но, чтобы сохранить позиционное преимущество, требовалась взвешенная оценка
предполагаемого курса Шеера. А выбор был невелик — вокруг бухты Гельголанд
стояли минные поля, что сужало поле для маневра.
Существовало два возможных варианта.
Немцы могли пойти прямо на юг, а затем — на восток вдоль берегов Голландии
к эстуарию Яде; такой путь безопаснее, хотя и длинней. Они могли срезать
угол и двинуться по прямой на юго-восток мимо Хорнс-Рева у датского побережья.
Бог весть почему, но Джеллико решил,
что голландский вариант более вероятен и, исходя из этого, приказал держать
курс на юг. К Хорнс-Реву для дополнительной постановки мин отрядили лишь
один заградитель «Абдиел». К 21.00 британский флот перестроился в походную
колонну и двинулся на юг. В пяти милях за кормой шли эсминцы прикрытия,
а в тринадцати милях к западу — линейные крейсера Битти, которому опять
поставили самостоятельную задачу. Весь флот растянулся на 25 миль.
Джеллико не угадал. Он отдает приказ
идти на юг, а через десять минут Шеер поворачивает на юго-юго-восток и
на скорости 16 узлов идет к Хорнс-Реву (карта). Где-то, когда-то курсы
двух флотов должны пересечься. Но Шеера это не пугает: «Идти прежним курсом».
Знаменательно, что ночной бой начался
с ошибки англичан — опять отличился флаг-адъютант Битти Ральф Сеймор, от
которого был один вред. Как только стемнело, он передал световой сигнал
на идущий по корме корабль: «Прошу сообщить наш пароль и отзыв. Мы их потеряли».
Комментируя его действия, Джеллико, которому после сражения доложили о
проделках связиста, назвал последнее сущим идиотизмом. С корабля передали
запрашиваемую секретную информацию, а крейсировавшие в двух милях от них
немецкие разведчики сигнал прочитали и запомнили. Теперь противник мог
без промедления открывать огонь по каждому, кто поспешит заявить о себе
подобным образом, или сам мог дать на запрос о принадлежности соответствующий
ответ и беспрепятственно пройти сквозь линию кораблей англичан — хотя,
похоже, на такое коварство он так и не пошел.
Сеймор явно не соответствовал занимаемой
должности, но мало того — Адмиралтейство решило внести свой личный вклад
в развал службы связи. Трагикомедия продолжалась. Полученные утром сведения
о том, что Шеер находится в Яде, не подтвердились, и Джел-
лико стал сомневаться в данных разведки.
К вечеру сомнения перешли в полное недоверие: из оперативного отдела пришла
шифровка с указанием координат Шеера. Но там его фактически не было, о
чем Джеллико знал. Информация исходила из сороковой комнаты. Им удалось
запеленговать Шеера, но тогдашние радары не отличались
большой надежностью. Между тем все
радиограммы Шеера исправно перехватывались, расшифровывались и передавались
в оперативный отдел. Около 22.00 Джеллико получил из центра данные радиоперехвата:
Шеер приказывал своему флоту двигаться походным порядком к Хорнс-Реву.
Но Джеллико Адмиралтейству больше не верил. Он продолжал идти на юг.
Прошло два часа. В сороковой расшифровали
еще шесть радиограмм Шеера; две из них оказались крайне важными. Одна была
адресована базе цеппелинов на севере Германии: «Рано утром обеспечить разведку
района Хорнс-Рева». Вторая — командующим флотилиями эсминцев: «Всем силам
собраться на рейде Хорнс-Рев к 2.00».
Вывод напрашивался сам собой, и
даже Джеллико, при всем его недоверии к разведывательным сведениям, исходящим
из Адмиралтейства, наверняка бы принял правильное решение и сменил курс,
если бы...
Если бы эти сведения до него дошли.
Из сороковой информация по команде поступила в оперативный отдел, находящийся
в подчинении начальника штаба. Начальник пошел спать, оставив за себя кэптена
А. Ф. Эверетта, секретаря Первого Лорда Адмиралтейства по военно-морскому
флоту. Специфики оперативного отдела тот не знал, да и вообще, судя по
всему, умом не блистал. В текстах перехватов он не нашел ничего, заслуживающего
внимания, и засунул их подальше. Нашли их совершенно случайно. К тому времени
последние залпы Ютландской битвы давно отгремели, и никакой ценности эта
информация уже не представляла. В Адмиралтействе сделали вид, что никакого
радиоперехвата не было, и разгильдяй, допустивший вопиющую халатность,
не получил даже устного выговора.
Около 22.00 корабли германского флота
Открытого моря увидели эсминцы прикрытия, шедшие в арьергарде Джеллико.
И в темноте промозглой ночи вспыхнул жаркий бой. Ютландская битва вступила
в третью фазу. Корабли противников сблизились на дистанцию прямого выстрела.
Управление флотами отсутствовало, командиры, вступая в поединок, действовали
на свой страх и риск. Стычки длились не более трех-четырех минут. Это теперь
историки, рассортировав груду донесений, рапортов, воспоминаний, могут
воссоздать более или менее достоверную картину событий. Непосредственным
же участникам битвы она казалась полнейшим хаосом. «Где находится противник,
мы не имели ни малейшего понятия,— писал командир одного из британских
эсминцев.— А где наши корабли — могли только догадываться».
Перестрелка началась, когда «Кастор»,
лидер флотилии эсминцев, повстречал два корабля, которые на запрос о принадлежности
ответили условным сигналом Королевского флота. «Кастор» приблизился на
2000 ярдов, и тут незнакомцы включили прожектора и открыли огонь. Это были
германские легкие крейсера «Франкфурт» и «Пиллау». «Кастор», получив серьезные
повреждения и потеряв много человек из команды, все же открыл ответную
стрельбу и выпустил торку, как артиллерийская дуэль закончилась, и на море
установилась гнетущая тишина.
Но передышка длилась недолго. Около
22.30 легкие крейсера «Саутгемптон» и «Дублин» наткнулись на крейсера германцев.
Офицер с «Саутгемптона» вспоминает: «Сигнальщик и штурман одновременно
доложили вполголоса: «Пять кораблей на траверзе». Мы запросили позывные,
немцы включили носовые сигнальные огни. Через минуту
прогремел одиночный выстрел с «Дублина».
Дистанция не превышала 800 ярдов. Я видел, как снаряд пробил борт немца
чуть выше ватерлинии. Вспышка разрыва на миг осветила чрево корабля, и
мне стало не по себе. Тут и немцы, и мы включили прожектора. Яркий
свет слепил глаза, но все же я успел
разглядеть пять светло-серых кораблей в ряд. Я скомандовал: «Огонь!» Тут
же рявкнула пушка. Бой длился три с половиной минуты». За эти три с половиной
минуты «Саутгемптон» успел пустить торпеду, которая угодила в крейсер «Фрауенлоб»
и разломила его пополам. Но и «Саутгемптон» понес потери — 89 человек были
убиты и ранены; три четверти команды верхней палубы вышло из строя.
Через час, около 23.30 германские
дредноуты, идущие чуть восточнее к югу Хорнс-Рева, пересекли курс британских
эсминцев, следующих на юг в кильватер своему линейному флоту, отставая
от него на пять миль. Строй кораблей англичан тут же нарушился. Во тьме
прямо по ходу появились смутные очертания каких-то кораблей. Лидер флотилии
«Типперери» запросил позывные. Немцы включили прожектора и открыли огонь.
«Типперери» загорелся и пошел ко
дну. Канонада продолжалась более сорока минут, причем темп ее нарастал.
Подходили все новые и новые корабли немцев, которые без промедления открывали
по легким кораблям британцев огонь из своих крупнокалиберных орудий. В
рядах противников началось смятение. Эсминец «Форчун» буквально
разнесло на куски, и он затонул.
В молниеносной схватке германский линейный крейсер сил сопровождения «Росток»
получил в борт торпеду, а «Позен» протаранил свой крейсер «Эльбинг». Командам
столкнувшихся кораблей пришлось спасаться, а сами корабли вскоре затонули.
Британский эсминец «Спитфайр» лоб в лоб сошелся с германским дредноутом
«Нассау». У эсминца содрало чуть ли не весь борт. Огромные пушки дредноута
рычали над головами британцев. «Попасть в нас они не могли, мы были в мертвой
зоне,— вспоминает один из моряков команды «Спитфайра»,— но нам
хватило одного грохота. Воздушной
волной, поднятой залпом, снесло мачту, трубу и мостик. «Спитфайр» горел,
в борту зияла пробоина длиной в 60 футов. Взамен «Нассау» оставил нам 20
футов своей верхней палубы, которая въехала в нашу жилую палубу».
|
|
00.00-00.15
Шеер ни на
градус не отклоняется от выбранного курса. Во мраке ночи немцы идут на
юго-запад, чудом избегая столкновения с противником. Замыкающие колонну
англичан дредноуты проходят в каких-то трёх милях от головного дредноута
Шеера "Вестфален". В течение двух часов то тут то там, то здесь вспыхивает
перестрелка с британскими крейсерами и эсминцами, идущими в арьергардном
прикрытии. Германские дредноуты топят британский эсминец "Арден". Перед
ними проходит огненный призрак - британский броненосный крейсер "Блэк
Принс". Через три часа, Шеер избежав крупных потерь приведёт свой флот
под защиту родных берегов. |
Была уже полночь, головным дредноутам
германцев оставалось совсем немного, чтобы пересечь курс Гранд-флита (карта).
Еще один британский эсминец, «Ардент», попал под огонь и затонул. Команда
разбитого «Спитфайра» готовилась к смерти. И она пришла. С десяток голосов
на палубе заорали: «Полундра!» «Я увидел горящий линейный крейсер, идущий
прямо нам в корму,— вспоминает командир эсминца.— Мы решили, что он собирается
нас таранить. Крейсер прошел всего лишь в нескольких футах от нас; пушки,
наведенные по правому борту на корму, прошли прямо над нами. Мы слышали,
как,
потрескивая, гудит пламя, и ощутили
на лицах его жар. Крейсер представлял собой сплошную огненную массу».
Немцы тоже видели этот жуткий призрак
и доложили о нем начальству. Написал о нем и Хазе, офицер с «Дерффлингера»:
«Корабль раскалился докрасна. На борту не оставалось ни одной живой души».
Ни немцы, ни англичане не знали, что это был за корабль. Сейчас
принято считать, что огненным призраком
мог оказаться броненосный крейсер «Блэк Принс». В дневном бою он получил
сильные повреждения, и командир принял решение возвращаться на базу. Но
одинокий броненосец столкнулся с главными силами флота Открытого моря и
был расстрелян. Команда погибла, но машина работала. Мертвый
корабль прошел через боевые порядки
противников и исчез во тьме. Больше его не видели.
После того как затонул «Типперери»,
флотилию эсминцев возглавил «Броук». Вскоре его поймал в прожектор дредноут
«Вестфален», шедший во главе немецкой колонны «Броук» дал по прожекторам
залп из 4-дюймовых пушек и пустил в противника торпеду. «Вестфален» ответил.
Его залпом снесло мостик, штурвал и машинный телеграф «Броука». Эсминец
лишился управления и протаранил «Спэрроухока», шедшего за ним.
Младший лейтенант на мостике «Спэрроухока»
видел, как прямо на него надвигается нос «Броука». Раздался страшный грохот,
и молодого офицера сбросило с мостика. Очнулся он на полубаке, но не на
своем корабле, а на «Броуке». С трудом поднялся на ноги и услышал приветствие
коллеги, такого же юного офицера: «Кто вы такой, черт бы вас побрал?» «Спэрроухок»
и «Броук» сцепились форштевнями.
Командир «Спэрроухока» решил, что
тонет, и приказал команде перебраться на «Броук». Командир «Броука», не
ведая, что творит его коллега, принял аналогичное решение — и его матросы
стали переходить на «Спэрроухок». Довольно долго команды менялись местами,
и лишь трезво оценив обстановку, командиры поняли, что это не выход из
положения. Матросы встали по своим местам, корабли отыграли «полный назад»
и расцепились. К счастью, оба они остались на плаву. «Броук» пошел кормой
вперед и исчез в ночной тьме. «Спэрроухоку» же не повезло: другой британский
эсминец, «Контест», протаранил его в корму. Теперь он оказался обречен
на верную гибель —
ни вперед, ни назад хода не было.
В 2.00, едва забрезжил рассвет, немцы
повстречали новую флотилию эсминцев. На этот раз британская торпеда попала
в цель — был подожжен линкор «Поммерн». «Корабль походил на огненный шар
какого-то гигантского фейерверка,— писал Хазе, который наблюдал трагедию
с борта «Дерффлингера», идущего в корме подбитого линкора.— Он распался
буквально на атомы. Через несколько минут от огромного корабля не осталось
и следа». В морской пучине погибло свыше 800 человек — вся команда «Поммерна»,
единственного линкора, потопленного в Ютландской битве.
В нефтяных разводах плавала мертвая
рыба, мертвые люди, по морю бродили мертвые корабли. Занимался рассвет.
В первых лучах восходящего солнца на «Спэрроухоке», беспомощно болтавшемся
в волнах, увидели, что прямо на них идет германский линейный крейсер. «Все
поняли, что пришел конец, но вслух об этом не говорили»,— вспоминал младший
лейтенант с эсминца. Команда подняла из погребов оставшиеся заряды и сложила
их вокруг уцелевшей пушки. Вражеский крейсер подошел поближе. Огня почему-то
не открывал. На эсминце обратили внимание на одну странность — крейсер
уж больно низко сидел в воде. Он подходил все ближе и ближе... И вдруг
погрузился носом и затонул.
Что это был за корабль, команда «Спэрроухока»
так и не узнала. И по сию пору это остается тайной. Тем временем Шеер,
несмотря ни на что, прорвался сквозь строй арьергарда британского флота
и шел к родным берегам. Джеллико держал курс на юг, где уже никого не было
и быть не могло. Но, что странно, лишь один эсминец счел своим долгом известить
адмирала о том, что ведет бой с дредноутами противника. Его командир распорядился
отправить радиограмму, но связаться с «Айрон Дьюком» не удалось. Никто
другой и не подумал поставить своего главнокомандующего в известность о
яростном бое, вспыхнувшем далеко за кормой флагмана. Иначе как массовым
умопомрачением этот факт объяснить нельзя. Но следует заметить, что и сам
Джеллико оказался не на высоте: грохот канонады и вспышки выстрелов на
горизонте он принял всего лишь за небольшую потасовку между эсминцами.
Позже один британский офицер саркастически
заметит: «Вспышки выстрелов, лучи прожекторов, пламя взрывов и подбитые
эсминцы, горящие яркими факелами, отмечали путь, которым уходили германцы,
ничуть не хуже, чем компас на мостике «Фридриха дёр Гроссе».
Ютландская битва завершилась. Навсегда
покинули строй линкор «Поммерн», линейный крейсер «Лютцов», легкие крейсера
«Фрауенлоб», «Висбаден», «Эльбинг» и «Росток», эсминцы «S-35», «V-4», «V-27»,
«V-29» и «V-48». Поминальный список британцев оказался еще длиннее. Погибли
линейные крейсера «Индефатигебл», «Куин Мэри» и «Инвинсибл»; броненосные
крейсера «Дифенс», «Уорриор» и «Блэк Принс»; эсминцы «Нестор», «Номад»,
«Типперери», «Ардент», «Форчун», «Шарк» и «Турбулент». После кошмарной
битвы с ночным призраком к ним примкнул и «Спэрроухок» — повреждения были
слишком велики, и шансов на благополучное возвращение домой не оставалось.
Эсминец был расстрелян своими и затонул. Список ужасен, но что характерно:
ни один дредноут — ни немецкий, ни английский — не погиб. Таков был результат
единственного за всю историю флота поединка стальных гигантов.
 |
"Дерфлингер"
после Ютландской битвы на верфях Вильгельмсхафенав ожидании ремонта. Немецкий
матрос рассматривает рваную пробоину - след от попадания тяжёлого снаряда. |