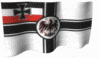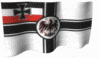|
|
|
Утро
31 мая 1916 года.
Флот открытого
моря направляется к берегам Ютландии. Матросы на фоне 12-дюймовых орудий
уинкоар "Остфрисланд" наблюдают за кораблями, вытянувшимися в цепочку на
горизонте
|
Вице-адмирала Рейнхарда Шеера, нового
комаЗндующего флотом Открытого моря, всю жизнь терзал внутренний конфликт.
По натуре он был бойцом, но проявить себя все не получалось и сделать карьеру
в мирное время ему так и не удалось. Сын баварского
учителя (сослуживцы-аристократы
считали его плебеем и относились к нему соответственно), Шеер поступил
на императорский флот шестнадцати лет от роду, но лишь на сороковом году
жизни старого служаку, отдавшего родине двадцать три года, назначили на
должность старшего помощника командира корабля.
Но время шло, и становилось все более
и более ясно, что грядут дела посерьезнее регат и смотров в Спитхеде и
Киле. Постепенно богатство и знатность перестали быть залогом успешной
карьеры, уступив место таланту и профессионализму. И Шеер продвинулся по
службе. К 1907 году в возрасте сорока четырех лет он был уже командующим
флотилией миноносцев и автором капитального труда по тактике торпедного
боя. В 1914 году Шеер
принял командование 2-й ударной
эскадрой линкоров, собрав под своим флагом все корабли старого типа,— это
ему еще дорого обойдется. Но засиживаться на одном месте не пришлось: вскоре
его назначают командующим 3-й ударной эскадрой дредноутов, а
затем — начальником штаба командующего
флотом Открытого моря. С этой должности он снова пошел на повышение, приняв
в январе 1916 года под свое начало все военно-морские силы Германской империи.
В себе Шеер был уверен; был уверен
и во флоте, сильно переоценивая возможности последнего. «Я проинспектировал
весь свой флот,— сказал он,— и мне остается лишь признать, что он не хуже
английского». С такими настроениями новый главнокомандующий отправился
на совещание по военно-морскому флоту, состоявшееся в Вильгельмсхафене
23 февраля 1916 года, и принялся убеждать кайзера использовать флот Открытого
моря более активно. Трудно сказать, что повлияло на кайзера — веские ли
доводы, приводимые Шеером, или то, что монарху было тогда не до флота —
он готовил крупную наступательную операцию против Франции под Верденом
(начать ее планировалось уже через три недели), но Вильгельм согласился.
Для начала Шеер собирался провести
операцию, аналогичную той, что с потрясающим успехом осуществил Ингеноль
в декабре 1914 года. Только на этот раз немцы не обратятся в бегство, едва
завидев неприятеля. Вслед за Ингенолем Шеер использует тяжелые крейсера
Франца фон Хиппера в качестве приманки. Хиппер обстреливает города Восточной
Англии, а немецкие дредноуты держатся в 60 милях у него за кормой. Затем,
когда Битти со своими тяжелыми крейсерами выйдет из Ферт-оф-Форта и, одержимый
охотничьим азартом, бросится в погоню, на него навалятся главные силы Шеера.
И пока Джеллико с Гранд-флитом спешит из далекого Скапа-Флоу, дело будет
сделано. 88 подводным лодкам предписывалось крейсировать в виду Скапа-Флоу,
Кромарти и Форта, отвлечь на себя силы Джеллико и по мере возможности задержать
его продвижение на юг. Для ведения воздушной разведки предполагалось использовать
цеппелины. Приступить к операции планировалось 17 мая.
Чтобы довести англичан до белого
каления и заручиться гарантией, что они угодят в расставленные силки, Шеер
приказал Хипперу предварительно провести два молниеносных рейда для ударов
по английским городам — первый удар был нанесен 6 марта, второй — 24 апреля.
Как выяснилось позже, это явилось
его ошибкой. Во время второго рейда крейсер «Зейдлиц» столкнулся с английской
миной и вернулся домой изрядно покалеченным. Так как Шеер не мог компенсировать
его выход из строя, выделив Хипперу один из своих
пяти новых тяжелых крейсеров, операцию
пришлось отложить на несколько недель и ждать, когда закончится ремонт.
Ко времени, когда «Зейдлиц» был готов, немецкие подводные лодки, вышедшие
на позиции в соответствии с первоначальным планом, уже
выработали топливо и вернулись на
свои базы. В засаде у СкапаФлоу осталось всего лишь пять субмарин.
По правде говоря, можно было бы и
подождать, но терпеливость не входила в число первейших добродетелей Шеера.
Утром 30 мая в 9.48 из радиорубки «Фридриха дёр Гроссе» ушел судьбоносный
приказ — всем кораблям флота Открытого моря к 19.00
собраться на внешнем рейде и до
рассвета изготовиться «к бою и походу».
Днем 30 мая Шеер вносит изменение
в свой план. Метеорологическая служба флота предсказывала встречный ветер,
а это означало, что цеппелины — послушные всем стихиям летательные аппараты
легче воздуха — не могут быть использованы для разведки, когда флот подойдет
к британским берегам. Шеер решает действовать в соответствии с запасным
вариантом: флоту приказано держаться ближе к родным берегам, так что потребность
в воздушной разведке будет не столь острой. В 15.40 радист «Фридриха дёр
Гроссе» отстучал сигнал: «31 Gg 2490» — кораблям действовать по новому
плану.
По этому плану 1-му разведывательному
отряду Хиппера (тяжелые крейсера), 2-му разведывательному отряду (легкие
крейсера) и трем флотилиям миноносцев предстояло совершить бросок на север,
держась вне видимости берегов нейтральной Дании, а
затем на рассвете 31 мая обнаружить
свое присутствие у берегов Норвегии, задержав с этой целью какое-нибудь
торговое судно.
Было и другое отклонение от первоначального
замысла: главные силы последуют за Хиппером на расстоянии не в 60, а всего
лишь в 25 миль. Поскольку у него не было воздушной разведки, Шеер решил
на всякий случай держаться поближе к Хипперу с его тяжелыми крейсерами:
так будет спокойнее. И наконец, он внял мольбам 2-й ударной эскадры и взял
с собой шесть ее устаревших броненосцев — всю свою первую команду. На этих
кораблях имелось лишь по четыре 11-дюймовых орудий, и на германском флоте
их окрестили «пятиминутками» — именно
столько времени броненосцы могли продержаться в современном морском бою.
Шеер расчувствовался, чего от него трудно было ожидать, включил ветеранов
в состав своей эскадры — и снизил таким образом скорость своих главных
сил по меньшей мере на три узла.
|
|
|
21.30
тридцатого мая - 14.15 тридцать первого мая
В 21.30 адмирал
Джон Джеллико отдаёт приказ своим дредноутам выйти из Скапа-Флоу, адмиралу
Дэвиду Битти надлежит вывести шесть своих тяжёлых крейсеров и четыре новых
сверхдредноута из Росита, Кромарти покидают 8 других дредноутов. Пять тяжёлых
крейсеров немецкого адмирала Франца фон Хиппера выходят из Яде в 1.00 31
мая, а 16 дредноутов и 6 линкоров под командованием Рейнхарда Шеера выступают
в 2.30. Почти 12 часов спустя британский крейсер "Галатея" замечает отряд
немецких кораблей во главе с крейсером "Эльбинг", который задержал торговое
судно.
|
Радиограммы Шеера, конечно же, перехватывались
хитроумными специалистами из сороковой комнаты британского Адмиралтейства.
К полудню 30 мая адмирал Джон Джеллико уже знал, что флот Открытого моря
выступает в поход. В 17.40 Адмиралтейство отдает приказ эскадрам Джеллико
и Битти развести пары, а еще через несколько минут поступает его распоряжение
«сконцентрировать свои силы к востоку от банки Лонг-Фортис и быть готовым
ко всему». В своих рубках штурманы дредноута «Айрон
Дьюк», флагмана Джеллико, и тяжелого
крейсера «Лайон», на котором держал свой флаг Битти, прокладывали курс
через Северное море к берегам Норвегии и Дании.
В 21.30, под конец долгого летнего
дня, столь обычного для севера Шотландии, Джеллико вышел в море. Его флаг
— красный крест Св. Георгия на белом поле — гордо реял над «Айрон Дьюком».
К мрачной процессии голубовато-серых гигантов примкнули другие суда: 15
дредноутов, 3 тяжелых крейсера, 8 броненосных крейсеров с облегченной броней,
11 легких крейсеров, 51 миноносец и один тральщик. Выход флота могли наблю-
дать лишь немногочисленные обитатели
пустынного побережья, а когда сгустились сумерки, корабли вообще пропали
из виду. Даже адмиралы и командиры на своих мостиках, даже штурманы в своих
рубках, даже впередсмотрящие и рулевые не видели ничего, кроме неясных
контуров ближайшего соседа, тускло мерцающих синих огней на корме впереди
идущего корабля да вспыхивающих в небе сигналов флагмана. Большинство же
команды вообще было лишено возможности наблюдать процессию, безмолвно следовавшую
в ночи: они находились в трюмных отделениях, где шла своя
жизнь — ярко горел свет, ритмично
постукивали машины, или на жилых палубах, где отдыхали после вахты, заняв
свое место в длинном ряду покачивающихся подвесных коек. В 22.30 британский
флот на скорости 17 узлов курсом 610 миновал Пентлендские
рифы.
Около 21.30 из Росита во главе эскадры
из 52 кораблей вышел флагман Битти «Лайон». Корабли прошли под могучими
трубчатыми фермами моста Форт и оставили позади мирно спящие Лит и Эдинбург.
В распоряжении адмирала находились 6 тяжелых крейсеров, 12 легких крейсеров,
29 миноносцев и одна авиаматка с гидропланом на борту, а также главная
ударная сила — четыре новейших и мощнейших сверхдредноута — «Баргем», «Вэлайнт»,
«Уорспайт» и «Малайя». В мире не имелось им равных: на каждом стояло по
восемь 15-дюймовых орудий, а скорость доходила до 25 узлов. Но Битти они
достались случайно, и это в предстоящем сражении обернется против британцев.
Дело в том, что в районе Росита не имелось подходящего места для проведения
стрельб, и 3-я ударная эскадра тяжелых крейсеров под командованием контр-адмирала
сэра Хорэса Худа отправилась в Скапа на учения. Взамен Битти на время передали
четыре дредноута из 5-
ой ударной эскадры под командованием
контр-адмирала Хью Эвана-Томаса. Вместе им служить не доводилось, к тому
же, как это вскоре выяснилось, Эван-Томас принадлежал к тем нерешительным
командирам, которые в минуту сомнения предпочитают действовать по уставу,
то есть, в полном соответствии с уже отданным приказом, даже тогда, когда
здравый смысл диктует необходимость проявления личной инициативы.
Несмотря на то, что в его ряды затесались
чужаки — а может быть, именно поэтому — Битти страшно гордился своим флотом.
«Здесь,— сообщил он жене,— собрались
самые мощные в мире ударные силы». Такой взгляд был ошибочным: Битти не
понимал, что его первостепенная задача — не столько решительный бой, сколько
разведка боем. «Тяжелые крейсера,— напишет позже
Джеллико,— предназначены для обнаружения
противника и донесения о всех его перемещениях. Они создавались как вспомогательная
сила ударного флота для ведения поиска и уточнения сил противника».
В 22.15, через сорок пять минут после
того, как Битти поднял якорь, из Кромарти, расположенного на берегу Морей-Ферта,
глубокого и бурного залива, начало выходить третье и последнее соединение
британцев — 2-я ударная эскадра под командованием вице-адмирала сэра Мартина
Джеррама. В ее состав входило восемь дредноутов. До сих пор британцам как-то
удавалось проводить ночные маневры в коварных водах залива Морей-Ферт,
хотя маяк на вершине Киннайрдс-Хеда и не работал. В 1.00 впервые с 1914
года на нем зажегся огонь; горел
он сорок минут, пока мимо него не проследовал последний корабль, спешащий
в ночи на свидание с Джеллико. Теперь весь Королевский флот вышел в море.
А через несколько часов вышел в море
и флот кайзера. В 07.50 31 мая немецкие тяжелые крейсера — корпуса их были
окрашены в бледно-серый цвет, а на трубах имелась цветная полоска: синяя,
красная, белая или желтая, в зависимости от положения корабля в своей эскадре
— миновали проход в минном поле у бухты Гельголанд и повернули на север.
К этому часу вопреки безрадостным прогнозам синоптиков утренний туман рассеялся.
Капитан 3-го ранга Георг фон Хазе, командовавший артиллерией на
тяжелом крейсере «Дерффлингер»,
вспоминает: «Величаво взошло солнце, разметало свои золотые лучи по морю,
и нашим глазам во всей своей красе предстал флот Открытого моря, идущий
в бой, — зрелище, достойное восхищения. Далеко впереди от нас кильватерной
колонной шли малые крейсера в сопровождении миноносцев. За ними следовали
тяжелые крейсера — пять могучих кораблей, носящих громкие имена,— гордость
нашего флота.
Погода стояла ясная, и далеко за
кормой мы видели его главные силы, наши линейные корабли. Всего их было
двадцать два — настоящая армада».
Армада тем не менее сильно уступала
противнику. Всего у немцев насчитывалось 99 кораблей общим водоизмещением
660000 тонн и 45000 человек команды, у англичан же — 149 кораблей общим
водоизмещением почти миллион с четвертью тонн и около 60 000 человек. На
лучших немецких дредноутах стояли всего лишь 12-дюймовые пушки, тогда как
на британских сверхдредноутах — стандартные 13-и 15-дюймовые орудия. Все
бри-
танские корабли были новейшей постройки,
за исключением тяжелых крейсеров, которым было по семь лет и больше. Даже
родоначальник нового флота «Дредноут», которому к тому времени исполнилось
десять лет, считался безнадежно устаревшим и в состав ударных группировок
флота не входил, тогда как главные силы Шеера оказались связаны по рукам
и ногам шестью старыми броненосцами — его 1-й эскадрой.
Более того, разведывательная информация,
которую исправно поставляла сороковая комната, давала англичанам огромное
преимущество — преимущество, которым они непростительно пренебрегли. Перед
тем как выйти в море и последовать за эскадрой
Хиппера, флагман Шеера «Фридрих
дёр Гроссе» передал свой позывной — «DK» — какой-то береговой радиостанции,
а себе взял другой. Делалось это для того, чтобы скрыть от противника факт
выхода в море. К такой уловке прибегали не раз, и в сороковой комнате об
этом знали.
В сороковой быстро определили новый
позывной — теперь здесь не только расшифровывали радиограммы немцев, но
и отслеживали корабли противника, для чего использовались пеленгационные
станции. Однако дешифровальщиков и Оперативный
отдел Адмиралтейства разделял «пролив»
флотского снобизма.
Строевые офицеры считали обитателей
сороковой комнаты высоколобыми выскочками: да, шифры они щелкают как орешки,
этого у них не отнимешь. Но проанализировать информацию, истолковать ее
должным образом им, конечно, не под силу — на такое
способны лишь настоящие моряки.
Зарвавшихся «береговиков» постоянно старались «поставить на место» — в
чем в конце концов и преуспели: отныне сороковая комната отвечала лишь
на запросы и по своей инициативе делилась информацией крайне ре-
дко и неохотно, и когда 31 мая в
11.10 в нее зашел контр-адмирал Томас Джексон, начальник Оперативного отдела,
и попросил доложить ему местонахождение позывного «DK», то получил исчерпывающий
ответ на свой вопрос. «В Яде»,— сказали ему, воздер-
жавшись от комментариев. Тот, разумеется,
поспешил известить Джеллико и Битти: тяжелые крейсера Хиппера вышли в море,
а Шеер с дредноутами находится все еще в базе.
Итак, оба командующих пребывали в
твердой уверенности, что дредноуты противника им не грозят. И оба флота
— темно-серые корабли англичан и бледно-серые немцев — устремились навстречу
неизвестности, туда, где им предстояло ярчайшим образом
продемонстрировать «военную мощь
флота, которого еще не знала история», как выразился Черчилль. Ютландская,
или, как ее назвали немцы, Скагерракская, битва стала единственной морской
операцией Первой мировой войны, в которой оказались задействованы все силы
флотов противников — и последнее в истории британских и германских ВМС
крупное сражение с участием линейных кораблей. Что касается авиации, то
в дальнейшем в мировой истории не было морской операции таких масштабов,
где бы
воздушные силы играли столь ничтожную
роль.
Что бы там ни писал Черчилль, в этой
битве «военная мощь флота» проявилась не лучшим образом — наблюдалось много
бестолковщины и неразберихи. Сражение проходило в два этапа:
- сначала скоротечная схватка тяжелых
крейсеров, затем противостояние дредноутов. На каждом этапе общий бой распадался
на множество мелких яростных стычек. Адмирал фон Хиппер, единственный из
британских и германских флотоводцев, чьи действия были почти безупречны,
оказался недалек от истины, когда в минуту затишья сказал, обращаясь к
своему штабу: «Готов биться об заклад, что когда-нибудь ученые крысы из
военно-морской академии будут ломать голову, пытаясь понять: что мы думали?
А ничего мы не думали. Думать было
некогда».
Противники едва не прозевали друг
друга. Битти получил приказание следовать к точке, находящейся в 100 милях
от минных полей у мели Хорнс-Рев. Если к 14.00 он не обнаружит противника,
то должен повернуть на север и примкнуть к Джеллико, который
будет стоять в 65 милях. Битти дошел
до пункта назначения, выслал на 8 миль вперед отряд легких крейсеров. Противника
они не обнаружили. Делать нечего, пришлось прервать поиск и отдать приказ
повернуть на север. А тяжелые крейсера Хиппера находились всего лишь в
40 милях к востоку, а за кормой у Хиппера в 50 милях к югу следовал Шеер.
А в открытом море между Хиппером и Битти шел невзрачный датский пароходик
«Н. И. Фьорд», ни сном ни духом не ведая, что из-за него-то, собственно
говоря, и начнется Ютландская битва.
В 14.00, когда Битти подходил к самой
восточной точке зоны своего поиска, немецкий легкий крейсер «Эльбинг»,
входящий в состав западного крыла сил сопровождения Хиппера, заметил датчанина
и выслал два миноносца, чтобы задержать и допросить «бродягу». Тем временем
крейсер «Галатеа», находившийся в составе восточного крыла сил прикрытия
англичан, не заметил поднятого сигнала идти на север и продолжал держать
курс на восток.
Итак, в 14.10 «Галатеа», идущая в
полном одиночестве, увидела «Н. И. Фьорд». Пароход стоял, пыхтя парами,
что уже само по себе было интересно. Когда «Галатея» подошла поближе, из-за
парохода выскочили два миноносца. Сомнений не было — это немецкие корабли:
их безошибочно опознали по укороченным фок- и высоким грот-мачтам. На крейсере
«Галатеа» сыграли боевую тревогу (как и сотни лет назад, ее возвещал сигнал
рожка), увеличили скорость до 28 узлов и открыли огонь из 6-дюймовой носовой
пушки.
Залп едва не смел с палубы ничего
не подозревавшего радиста крейсера. Так как строжайше соблюдались меры
секретности, он, скорее всего, не знал, что перед Гранд-флитом поставлена
задача несколько более ответственная, чем дежурное прочесывание морских
просторов — занятие, как известно, скучное и однообразное.
И наш радист неспешно брел по своим
делам, наслаждаясь солнышком. Даже когда протрубил рожок, он решил, что
тревога учебная — по слухам, ее собирались объявить днем. Но рык пушки
над самым ухом прервал его безмятежный променад. «В мгновение ока я очутился
в радиорубке,— вспоминал моряк.— Только я пришел в себя, как гремя по переговорной
трубе скатился с сигнального мостика бронзовый футлярчик, в котором лежала
бумажка — первое в Ютландском сражении боевое донесение: «Вижу противника».
«Галатеа» вскоре прервала преследование
миноносцев — показались два германских крейсера, немедленно открывшие огонь.
Не успела «Галатеа» отправить радио об их появлении, как рядом с мостиком
разорвался снаряд: «Эльбинг» стрелял с дистанции
14 000 ярдов. «Галатеа» увеличила
ход и направилась на северовосток, где находились главные силы Джеллико.
Пока на корабле шифровали донесение
об обнаружении крейсеров противника и передавали его по радио, а затем
расшифровывали, записывали и доставляли на мостик Битти, прошло 12 минут.
В 14.31 на британском флоте пьют чай, но команда «По местам стоять!» прервала
это мирное занятие. Битти, намереваясь отрезать противника от его баз,
поднял сигнал: «Сменить курс. Держать на юго-юго-восток».
«Галатеа» передала свое донесение
на «Лайон» по радио (корабли находились вне видимости друг друга), хотя
британцы избегали пользоваться в бою радиосвязью без крайней нужды. Приемники
и передатчики были еще недостаточно надежны: контакты часто отходили, провода
рвались, лампы бились. Малейшее сотрясение — даже от собственных залпов
— выводило их из строя. Поэтому в Ютландской битве для передачи приказов
Битти использовались сигнальные флаги. Однако в этом отношении конструкция
фок-мачты «Лайона» оказалась весьма неудачной — фалрепы натянуты так, что
читать сигнал удавалось с трудом, к тому же флаги тонули в черном дыму
труб — Битти приказал поднять давление в котлах до предела.
Печальные последствия не заставили
себя ждать. Эван-Томас, под командой которого находилось четыре сверхдредноута,
не заметил сигнала Битти повернуть на юго-юго-восток. А так как он не относился
к тем, кто нутром чувствует каждый маневр своего командира и делает как
тот, не дожидаясь приказа, то соединение Эван-Томаса тупо продолжало следовать
прежним курсом. Пока поняли ошибку, пока делали поворот, прошло шесть минут,
и дредноуты оказались в 10 милях за кормой. Бой начался без них.
Немцы, получив донесение о первом
столкновении с противником, действовали более слаженно. В 14.27, буквально
через минуту после получения радио с «Эльбинга» о стычке с крейсером «Галатеа»,
Хиппер поворачивает свои тяжелые крейсера на вестзюйд-вест и идет навстречу
противнику. Видя, что флагман меняет курс, легкие крейсера и миноносцы,
не дожидаясь приказа, следуют за ним. Тяжелые крейсера Германии и Британии,
все еще не видя друг друга, следуют сходящимися курсами, держа на юг —
прямо туда, где стоят дредноуты Шеера.
Англичане начали терять свое преимущество
— уже хотя бы потому, что Хиппер знал, куда идет, а Битти — нет.
Серьезных попыток провести дальнюю
разведку Битти так и не предпринял. Он ограничился лишь тем, что приказал
авиаматке «Энгадайн» выслать в патрулирование двухместный гидроплан (табл.).
Самолетик спустили за борт. На море было спокойно, и он без всяких помех
поднялся в воздух и полетел на север, где ему удалось увидеть лишь легкие
крейсера и несколько миноносцев противника. Из-за низкой облачности пришлось
лететь на малой высоте. Немцы обстреляли разведчика из пулеметов, предназначенных
для борьбы с миноносцами. Сбить самолет им не удалось, и тот по радио передал
донесение о противнике на «Энгадайн». До Битти эта информация, однако,
не дошла: радисту авиаматки все не удавалось настроить забарахливший передатчик.
Вскоре на
гидроплане лопнул бензопровод. Летчику
лейтенанту Фредерику Рутланду (его прозвали «Рутландом Ютландским») все
же удалось посадить аппарат в виду «Энгадайн». Он замотал прохудившуюся
трубку резиновым шлангом и уже собрался снова подняться в воздух, как получил
приказ подойти к кораблю. Гидроплан подняли на борт — больше в нем не нуждались
— тяжелые крейсера противников, прикрытые заслоном легких кораблей, увидели
друг друга. Тем и ограничилось участие авиации в Ютландской
битве.
|
|
|
3.15-3.48
Битти на "Лайоне",
не зная точно каками силами располагают немцы, приказал авиаматке "Энгадайн"
првести воздушную разведку. хотя самолёт (показан пунктиром) в 3.30 обнаружил
германские крейсера, доложить об этом не сумел из-за плохой связи. На севере
"Эльбинг" преследует "Галатеа" к западу, а затем поворачивает на юго=восток,
заманивая её под огонь своих тяжёлых крейсеров во гляве с "Лютцовым". Битти
тем временем, зная лишь что неприятель - севернее и восточнее его положения,
идёт на перехват. Следом движутся супердредноуты во главе с "Бархэмом".
В 3.20 Хиппер замечает Битти и уходит на юг. В 3.20 Битти настигает его.
В 3.48 начинается бой.
|
К западу горизонт просматривался
лучше, чем к востоку, где собирался туман. В 15.20 флот Хиппера, находящийся
в 11 милях на восток-северо-восток от Битти, первым заметил неприятеля,
державшего курс на северо-восток. Капитан третьего ранга Георг
фон Хазе, артиллерист тяжелого крейсера
«Дерффлингер», увидел британские тяжелые крейсера в панораме орудийного
прицела. «Черные чудовища,— писал он,— шесть высоких, осанистых гигантов
шли двумя колоннами. Они четко вырисовывались на го-
ризонте, и даже с такой дистанции
выглядели мощными и массивными. Наш флагман «Лютцов», шедший впереди нас,
развернулся и взял курс на юг. Противник тоже совершил маневр и пошел нам
наперерез. Замысел адмирала фон Хиппера был ясен: он намеревался вступить
в бой с тяжелыми крейсерами англичан, но сначала решил заманить их поближе
к нашим главным силам».
За каких-то несколько недель до этого
Битти похвалялся:
«Только бы мне попался Хиппер со
своими тяжелыми крейсерами, уж я ему покажу!» Увидев тяжелые крейсера немцев,
он увеличил скорость до предела — 25 узлов — и приказал 2-й эскадре тяжелых
крейсеров контр-адмирала сэра Уильяма Пакенгема
занять место в строю после 1-й эскадры,
во главе которой шел «Лайон», а за ним по порядку: «Принсесс Ройал», «Куин
Мэри», «Тайгер», «Нью Зиланд» и «Индефатигебл». Когда Пакенгем закончил
маневр, Битти отдал новый приказ: кораблям сменить курс на 100 градусов
— на пересечение с противником. Четыре сверхдредноута изо всех сил пытались
нагнать колонну, но были еще далеко.
Маневр же Хиппера был куда проще
и незатейливее: зная, что по дальнобойности его пушки уступают британским,
он стал сближаться с Битти по диагонали. За «Лютцовом» в кильватере следовали
«Дерффлингер», «Зейдлиц», «Мольтке» и «Фон дёр Танн»,
держась под острым углом к орудиям
противника. В 15.48, идя на скорости 18 узлов — подходящая скорость для
ведения прицельной стрельбы,— «Лютцов» приблизился к англичанам на 15000
ярдов. По фалрепам взметнулся сигнал, и пять немецких тяжелых
крейсеров одновременно открыли огонь.
|
|
|
3.48-4.48
Хиппер на
"Лютцове" под ураганным огнём тяжёлых крейсеров и супердредноутов Битти,
отходит к югу, под прикрытие приближающихся кораблей Шеера во главе с "Кёнигом".
Рокуда эскадры тяжёлых крейсеров идут к югу строго параллельными курсами,
германскаяартиллерия тремя попаданиями в 4.05 пускает на дно "Индефатигебл".
Спустя 20 минут взлетает на воздух "Куин Мэри". Завязывается бой между
лёгкими кораблями, выдвинувшимися собеихсторон перед фронтом, противники
теряют по 2 эсминца. И наконец в 4.40 Битти, получив донесение от эскадры
лёгких крейсеров, двигающихся перед ним, о том что сейчас врежется в главные
силы германского флота, приказывает повернуть на 180 градусов к северу
и двигаться к своим дредноутам.
|
Битти развернулся почти на 180 градусов,
взяв курс параллельно кораблям Хиппера (карта). Англичане не успели завершить
сложный маневр на высокой скорости и ответили на огонь с запозданием, стреляя
редко и неточно. Немцы пристреливались, и снаряды ложились все ближе к
цели, вздымая в небо огромные водяные столбы. Одному офицеру «Тайгера»
эти снаряды напоминали «огромные синие бутылки. Казалось, они летят прямо
тебе в глаз. Но они падали в море и либо взрывались, либо рикошетили и,
кувыркаясь в воздухе, летели куда-то дальше».
В 15.52, всего лишь через четыре
минуты после начала стрельбы, снаряд с «Мольтке» разорвался на полубаке
«Тайгера» и уничтожил дальномер. Дальше было еще хуже. Два 11-дюймовых
снаряда попали в носовые башни крейсера, и темп стрельбы упал вдвое. В
15.56 другой снаряд разорвался в трюме «Тайгера», перебив в нескольких
местах паровую магистраль, и лишь ценой неимоверных усилий команде котельного
отделения удалось удержать корабль на ходу. В течение следующих семи минут
в «Тайгер» угодило еще пять снарядов «Мольтке».
Тем временем «Дерффлингер» вел огонь
по «Принсесс Ройал». Один 12-дюймовый снаряд попал в носовую башню А, другой
разорвался в трюме и на 20 минут вывел из строя главный пост управления
в машинном отделении. Держать теперь корабль на курсе было крайне затруднительно.
Но немцам этого показалось мало: «Дерффлингер» дал новый залп и поразил
носовую башню В, пробил фок-мачту и трубу.
В яростной перестрелке двух флагманов
«Лайону» Битти хорошенько досталось от «Лютцова» Хиппера. Не успел «Лайон»
вступить в бой, как в него угодило два снаряда — один разнес в щепки шлюпку,
другой слегка поцарапал палубу. «Лайону» продолжало везти: и третий снаряд
не нанес особого ущерба — он оказался не бронебойным. Но четвертое попадание
обернулось для «Лайона» настоящей катастрофой. Вахтенный офицер «Лайона»
вспоминает жуткий случай. Он наблюдал за огнем, когда на мос-
тик, пошатываясь и истекая кровью,
весь в страшных ожогах, оглушенный, поднялся сержант Королевской морской
пехоты. «Я спросил его, в чем дело. Он прохрипел чуть слышно: «Башня Q
разбита. Вся команда погибла. Мы подтопили артиллерийский по-
греб». Я посмотрел с мостика на
среднюю часть корабля. Бронированный верх башни свернулся в трубочку, и
она походила на открытую банку сардин. Из зияющей дыры клубами валил густой
желтый дым. Странно, что все это произошло всего лишь в нескольких ярдах
от боевого поста Битти, но никто на мостике не слышал взрыва».
|
|
|
Дым
валит с британского тяжёлого крейсера "Лайон", его средняя башня разворочена
взрывом в результате прямого попадания 12-дюймового снаряда с германского
тяжёлого крейсера "Лютцов". Пламя распространилось вверх по подъёмнику
боеприпасов в пороховой погреб, что моглопривести к гибели флагнмана адмирала
Битти. Но этого не случилось благодаря командиру башни, майору Королевской
морской пехоты Фрэнсису Дж. У. Харви. Смертельно раненый он успел распорядиться
задраить двери погреба и подтопить его.
|
С «Лайоном» стряслась та же беда,
что и с «Зейдлицем» у Доггер-Банки. Тогда снаряд разорвался в башне — команда
погибла, а несколько пороховых зарядов загорелись. Немцы извлекли урок,
полученный ими в том сражении, и устранили недостатки в кон-
струкции орудийных башен. Артиллерийский
погреб оборудовали двойной герметической дверью, которую перед боем наглухо
задраивали. Но англичанам тогда испытать подобного несчастья не довелось,
и выявить просчет инженеров просто не представилось возможности.
Порох вспыхнул, и пламя устремилось
вниз по центральному стволу башни. В погребе мог начаться пожар, и корабль
неминуемо бы затонул, если бы не молниеносная реакция майора Королевской
морской пехоты Фрэнсиса Дж. У. Харви, командира башни. Смертельно раненный,
Харви успел отдать приказ задраить двери погреба и открыть кингстоны. Позже
из трюма извлекли тела матросов, выполнивших команду Харви и спасших «Лайон».
Их руки крепко сжимали ручки дверей артиллерийского погреба.
Но пока потери англичан были относительно
невелики. Их первый залп дал перелет, и снаряды разорвались где-то в 2000
ярдах за кормой немцев. Затем было попадание в «Зейдлица» — из строя выведен
электрораспределительный щит. Наконец, после
восьми минут ураганной стрельбы
«Куин Мэри» поразила «Зейдлиц» еще раз. 13-дюймовый снаряд прошил 8-дюймовую
броню башни С в средней части немецкого корабля, перебил комендоров и поджег
подготовленные к бою пороховые заряды. Но пожар, вспыхнувший в центральной
части башни, не перекинулся на погреб: на пути огня встали наглухо задраенные
двери, к тому же погреб был частично подтоплен.
На начальном этапе Ютландской битвы
тон задавали немцы.
Дело было не в Битти — хотя он не
всегда верно оценивал обстановку, но храбрости ему было не занимать. А
если он и отступал — сначала повернул на запад на пять румбов (один румб
его компаса равнялся 11 градусам 15 минутам), затем еще на один, а после
этого — еще на три, взял курс на юго-запад и увеличил дистанцию между боевыми
порядками противников до 20 000 ярдов, то отойти его заставили немецкие
комендоры, стрелявшие часто и метко.
Англичане вышли из-под огня немецких
тяжелых крейсеров — достать их мог лишь один «Фон дёр Танн». Хотя он и
был старше своих собратьев, да и размеры имел не столь внушительные, отличался
он одной особенностью. Его 11-дюймовые пушки поднимались на 20 градусов,
тогда как у всех других — всего на 16. В ходе многочисленных тактических
учений немцы пришли к выводу, что условия видимости на Северном и Балтийском
морях редко позволяют вести стрельбу с дистанции свыше 14000 ярдов. Подъем
ствола орудия под большим углом для обеспечения максимальной дальнобойности
представлял определенные технические трудности. Бесконечные инженерные
изыскания показались немцам бессмысленными, и на новых кораблях угол подъема
орудийных стволов был снижен. Но «Фон дёр Танн» мог использовать свои орудия
на сто процентов, а их дальнобойность доходила до 22 400 ярдов. С этой
дистанции он и открыл огонь по «Индефатигеблу». Результаты превзошли все
ожидания. Пролетев по дуге тридцать секунд, три его 11-дюймовых снаряда
разорвались на квартердеке тяжелого крейсера британцев. Приблизительно
через минуту прогремел новый залп — «Фон дёр Танн» послал в цель еще три
снаряда, на этот раз поразив носовую башню «Индефатигебла».
Секунд тридцать царила тишина, и
казалось, что этим дело и кончится. Но в 16.05 вспыхнули пороховые заряды,
огонь в мгновение ока перекинулся на артиллерийский погреб, раздался оглушительный
взрыв, и «Индефатигебл» исчез в языках огня и клубах густого черного дыма.
Было видно, как над тучей дыма на высоте не менее 200 футов в воздухе парит
50-футовый паровой катер — без видимых повреждений, но перевернутый вверх
дном.
События развивались столь стремительно,
что многие ничего не успели понять. Когда к месту гибели крейсера подошел
сверхдредноут «Малайя» из долгожданной эскадры адмирала Эван-Томаса, его
команда приняла плавающие в море обломки за останки
немецкого корабля и радостно грянула
«Ура!». «Нам и в голову не пришло, что это может быть наш крейсер,— писал
корабельный гардемарин с «Малайи».— Но оказалось, что это — «Индефатигебл»,
все, что осталось от огромного корабля и 1000 человек команды». На «Лютцове»
не верили своим глазам — не может современный тяжелый крейсер сгинуть в
одночасье. Хиппер долго смотрел в подзорную трубу, считал корабли противника
и, лишь
убедившись, что вместо шести кораблей
в строю находятся только пять, с облегчением вздохнул. Затем закурил сигару.
Но поздравлять себя с победой было
рано — немцы увидели четыре приближающихся корабля. Их тотчас опознали:
это были сверхдредноуты англичан. Все о них слышали и много о них говорили
— скорость у этих чудовищ как у тяжелых крейсеров, а вооружение — просто
колоссальное: по восемь 15-дюймовых орудий на каждом. Их появление, по
словам командира «Зейдлица», представилось «зрелищем величественным и жутким».
И у капитана третьего ранга фон Хазе они вызывали почти священный трепет:
«В скорости они почти не уступали
нашим тяжелым крейсерам, но их снаряды были тяжелее наших более чем вдвое.
Они открыли огонь с умопомрачительной дистанции».
Не успели на «Фон дёр Танне» поздравить
друг друга с победой, как крейсер — он замыкал колонну Хиппера — попал
под огонь сверхдредноутов и стал первой целью одетых в броню чудовищ. Прямым
попаданием 15-дюймовый снаряд с «Баргема»
пробил ему корму по ватерлинии,
и в кормовое отделение хлынула вода. «От страшного удара,— писал командир
«Фон дёр Танна»,— корабль закачался. В воду уходили то нос, то корма. И
так раз пять или шесть». По «Фон дёр Танну» вели огонь одновременно «Баргем»,
«Уорспайт», «Малайя» и тяжелый крейсер «Нью Зиланд», командир которого,
Джон Грин, надел поверх мундира экзотическую черно-белую юбочку, сплетенную
из тростника. На языке маори она называлась «пиу-пиу». Когда крейсер был
в кругосветном плавании, юбочку командиру корабля подарил один вождь маори,
заверив, что это одежда непростая — она приносит счастье. Кто знает, может,
это и так. По крайней мере, когда снаряд «Фон дёр Танна» — он все еще стрелял,
хотя два орудия главного калибра вышли из строя,— попал в «Нью Зиланд»,
никаких серьезных повреждений крейсеру он не причинил.
Теперь, когда сверхдредноуты вступили
в бой, Битти мог приказать своим тяжелым крейсерам вновь сблизиться с противником,
повернув к нему сначала на один румб, а затем еще на три.
Англичане пристрелялись, и к «Фон
дёр Танну» прибавился «Лютцов», на котором снарядом повредило башню, убило
и ранило несколько человек. Битти имел все основания полагать, что вот-вот
произойдет решительный перелом. А затем в 16.26, через два с лишним часа
после того, как «Галатеа» начала битву, британцев постигла еще одна катастрофа.
Офицер, бывший в то время в командирской
башне «Тайгера», идущего следом за «Куин Мэри», видел, как это произошло.
Как завороженный, он не мог отвести глаз от ужасного зрелища. В «Куин Мэри»
попали три снаряда, выпущенных с «Дерффлингера» и «Зейдлица», а затем и
еще два. «Вскоре после попаданий,— вспоминал он,— я увидел тусклое сияние
в средней части корабля, а затем он взорвался, как медвежий табак, или
как там называется тот гриб, который взрывается, когда его нажмешь».
Как и «Индефатигебл» чуть раньше,
«Куин Мэри» пропала за завесой дыма и огня. Через несколько минут мимо
гибнувшего корабля проследовал «Нью Зиланд». Один из его офицеров позже
писал: «В бинокле проплыла корма корабля, выступающая из воды на 70 футов;
винты медленно вращались; из люка, ведущего в кормовое отделение, валил
белый дым — густой, как вата. На корме я прочитал надпись — «Куин Мэри».
Битти, стоявший на мостике «Лайона»,
встретил гибель «Куин Мэри» с поразительным хладнокровием. «Четфилд,— сказал
он командиру своего флагмана,— что-то нашим кораблям сегодня чертовски
не везет. Вам так не кажется? Возьмите-ка два румба
влево»,— то есть ближе к Хипперу.
Затем он приказал миноносцам провести торпедную атаку.
По сигналу 12 английских миноносцев
покинули свои места в первой линии и тремя отрядами устремились на противника.
Увидев их маневр, Хиппер приказал своим 15 миноносцам контратаковать англичан.
Такого история морских сражений еще не знала.
Британские и германские корабли
сближались со скоростью 60 узлов, беспрестанно паля «очередями» (максимальный
темп стрельбы), выходили на прямую наводку, резко разворачивались, расходились,
опять разворачивались и начинали новую атаку.
С больших кораблей не отрывая глаз
следили за действиями эсминцев, ведущих бой в море между линиями главных
сил. Было на что посмотреть. «Творилось нечто невообразимое,— писал один
офицер.— Какие-то смутные фигуры, длинные и низкие, на
бешеной скорости за 30 узлов носились
туда и сюда под градом снарядов, в всплесках разрывов и в черном дыму.
По ним стреляла артиллерия вспомогательного калибра немецких линейных крейсеров,
над их мачтами с ревом летали тяжелые снаряды — и
немецкие, и наши». Вспоминает другой
офицер: «Временами сам эсминец совсем исчезал из виду, от него оставалась
лишь высокая белая волна, идущая от носа. Снаряды сыпались градом. Новый
залп. Казалось, что на этот раз ему не уйти. За всплесками разрывов ничего
не видно, но вот появляется белый бурун. И опять залп, и опять эсминец
исчезает из вида».
Британский эсминец «Никатор» прошел
через всю эту мясорубку, не получив ни одного повреждения. Вот как описывает
младший лейтенант с этого корабля действия своего командира во время боя:
«Суть в том, что он шел прямо на залп — то есть, если был недолет, он командовал
право руля. Немцы корректировали огонь и увеличивали дистанцию, но накрыть
нас им не удавалось, ведь на старом месте нас уже не было. Затем он командовал
лево руля, и мы шли туда, где только что упали снаряды. И так
далее». Во время боя, с восхищением
добавляет он, командир спокойно попыхивал трубочкой, небрежно облокотившись
на леера.
В схватке два немецких эсминца —
«V-27» и «V-29» пошли на дно, а два британских — «Номад» и «Нестор» были
выведены из строя попаданиями снарядов в машинные отделения. Они потеряли
ход и беспомощно болтались между эскадрами. С обеих сторон
были выпущены до 20 торпед, но все
они прошли мимо цели, за исключением одной, поразившей «Зейдлиц». Согласно
боевому донесению немцев, он получил «пробоину размером с амбарные ворота
и медленно уходил в воду с дифферентом на нос». Но до конца боя он оставался
на плаву — немецкие корабелы работали не за страх, а за совесть.
Согласно британскому боевому уставу,
легким крейсерам надлежит следовать в авангарде и выполнять задачи разведки.
Но Битти, заметив противника, резко повернул, и отряд оказался в корме
главных сил. Крейсера, стремясь занять положенное им место
в строю, шли на всех парах, срезали
углы, но поспели лишь к концу боя. Только в 16.30 крейсер «Саутгемптон»
оказался там, где ему следовало быть,— в двух-трех милях по носу «Лайона».
И уже через восемь минут «Саутгемптон» послал радио, которое изменило весь
ход Ютландской битвы: «Молния. Вне очереди. На зюйд-осте вижу линейные
корабли противника. Следуют курсом передовых сил».
Конечно же, это был Шеер. Шел он
на скорости 16 узлов: развить большую ему мешали тихоходные линкоры 2-й
эскадры. Битти сразу же понял, что все это время Хиппер заманивал его под
огонь орудий флота Открытого моря. Он тут же решил радикально изменить
ситуацию: притворным бегством увлечь немцев — все их силы — на север, где
неприятеля будет ждать Джеллико, о чьём присутствии, как он верно полагал
противниквсё ешё не догадывался. передатчик на "Лайоне" вышел из строя
и Битти просемафорил на «Принцесс Ройал», шедший в строю вторым, распоряжение
передать донесение Джеллико, а затем флажным сигналом приказал своему флоту
взять курс на норд.
Хиппер последовал его примеру. «Бег
на юг» закончился. Начался «бег на север».
Но начался он не для всех. Легкие
крейсера Битти взяли курс на юг, чтобы получше разглядеть свежие силы противника.
Позже один молодой лейтенант с «Саутгемптона» поделился своими впечатлениями
об этом жутковатом предприятии: «На всех парах,
где-то под 25 узлов мы приближались
к строю ужасных исполинов. А наши товарищи, взявшие курс на север, терялись
в дали.
Томительные секунды ожидания сменились
минутами, а немцы все не стреляли». В общей сумятице и стелющемся тумане,
который моряки обоих флотов кляли весь остаток дня, немцы ошибочно приняли
эскадру противника за свою. На «Саутгемптоне» уже
подняли сигнал возвращаться обратно,
и на крейсерах с нетерпением ждали, когда же наконец коммодор Уильям Гудинаф
прикажет приспустить его — сигнал, означающий «выполнять команду». Но лишь
когда «Саутгемптон» подошел к немцам на 13000 ярдов, флаг наконец медленно
пополз вниз. «В воздух полетели бескозырки, и четыре корабля развернулись,
подставив противнику корму. И тут же началась потеха — с полдюжины немецких
кораблей открыли по нам огонь, правда, с запозданием».
Согласно боевому расписанию, наш
молодой человек вместе со своим помощником, еще более молодым сублейтенантом,
и полудюжиной матросов находился на юте на наблюдательном посту. Немцы
были вне досягаемости пушек крейсера, и делать двум
юношам было нечего. Стремясь показать,
что сам черт им не брат, они присели и под защитой 0,1-дюймовой «брони»
ограждения решили перекусить сэндвичами, выданными им сухим пайком. Однако
«кусок не лез в горло, и вообще, жаль было переводить добро — не пройдет
и десяти минут, как один из этих 11 -дюймовых снарядов достанет нас — в
этом никто не сомневался».
Лейтенант и сублейтенант договорились
не смотреть в сторону неприятеля. Но соблазн оказался слишком велик, и
они украдкой поглядывали, как вспыхивают язычки пламени над дулами орудий
двух-трех кораблей, ведущих огонь по их крейсеру. У сублейтенанта оказались
наручные часы. Засекли время: от дульной вспышки до разрыва проходило 23
секунды. «На двадцать третьей секунде мой помощник корчил выразительную
мину, и тут же, в подтверждение правильности наших расчетов, раздавался
какой-то загробный гул и грохот разрывов».
Четырем легким крейсерам удалось
уйти, но потерявшие ход эсминцы «Номад» и «Нестор» были обречены. Команды,
не в силах что-либо предпринять, молча наблюдали, как британские и германские
линейные корабли разворачиваются на 180 градусов и идут на север, беспрерывно
паля друг в друга. И вот они исчезли за горизонтом. Тут наблюдатель «Нестора»
доложил своему командиру: «На горизонте линейные корабли противника. Следуют
в нашем направлении».
Германские дредноуты шли своим курсом,
но им подвернулись подбитые британские эсминцы. Первой их жертвой стал
«Номад». «Началось избиение младенцев,— писал командир «Нестора».— После
нескольких залпов на «Номаде» не осталось живого места».
В считанные минуты эсминец пошел
на дно. «Мы не сомневались, что нам уготована та же участь,— продолжает
командир.— С дистанции около пяти миль немцы открыли огонь из орудий вспомогательного
калибра. Мы выпустили последнюю торпеду. «Нестор», весь окутанный дымом,
под градом снарядов, стал уходить кормой в воду. Я отдал свою последнюю
команду: «Всем покинуть корабль».
Когда Битти повернул на север, он
бросил не только разведывательный отряд легких крейсеров и два поврежденных
эсминца.
Брошенным оказался и адмирал Эван-Томас
со своими дредноутами «Баргем», «Малайя», «Уорспайт» и «Вэлайнт». Поверить
этому трудно, но на дредноутах опять не заметили сигнала флагмана изменить
курс. По-видимому, гордые исполины решили не обращать внимания на такие
мелочи, как сигнальные флаги. И даже красноречивый маневр эскадры линейных
крейсеров Битти, прошедших мимо Эван-Томаса встречным курсом, не сбил с
толку целеустремленного адмирала. На всех парах он шел на врага, преисполненный
желанием начать первый в истории не только Первой мировой войны, но и мировой
истории войн открытый бой флотов с участием дредноутов.
Сорок пять минут Эван-Томас вел бой
с превосходящими силами противника, причем приблизился к ним на такую дистанцию,
что впору было идти на абордаж. Затем он все же счел за благо отойти и
проследовал за Битти, прикрывая отход колонны плотным артиллерийским огнем.
За сорок пять минут жаркого боя дредноуты показали, на что способны — и
перспективы не радовали. Исполины продемонстрировали свою неуязвимость.
Они могли без устали молотить друг друга, что не влекло за собой ни
ощутимых материальных потерь, ни
снижения боеспособности. Зачастую на юте даже не догадывались, что на полубаке
разорвался снаряд, и отказывались верить в это, пока собственными глазами
не увидели повреждения. «Корабль раза два сильно тряхнуло,— писал заместитель
командира «Уорспайта»,— но я не придал этому особого значения. Мне и в
голову не пришло, что в нас попали. Я видел, что двумя залпами мы накрыли
немецкий крейсер, и он сначала словно тлел, а потом весь вспыхнул, как
стог. Я
сказал расчету, что молодцы, мол,
ребята: так держать! Машина работала как часы».
В распоряжении заместителя командира
находились пожарные расчеты и команда обходчиков, и вскоре ему доложили,
что «Уорспайту» порядком досталось, хотя и он поработал на славу.
Во время одного из обходов корабля
наш офицер и сам оказался свидетелем попадания, 12-дюймовый снаряд прошил
бортовую броню всего лишь в нескольких футах выше ватерлинии. «В небо взметнулось
золотистое пламя,— писал он,— в воздухе сплошной
стеной стояла металлическая пыль,
едко пахло окалиной. Казалось, что все рушится со страшным грохотом». Добравшись
до юта, он увидел, что палуба залита и вода хлещет в адмиральскую каюту.
Всего он насчитал до дюжины пробоин, вызвавших течи и пожары, имелись убитые
и раненые. Тем не менее «настроение команды было бодрым, и от меня ждали
новостей, но я ничего не мог им рассказать, так как сам не имел ни малейшего
представления о том, что происходит».
|
|
|
17.35-18.00
Идя на север
на соединение с Джеллико, Битти заманивает германский флот в ловушку. Его
комендоры пристреялись и начинают поражать линейные крейсера эскадры Хиппера.
К 18.00 иппер, стремясь уйти из-под огня Битти, берет курс на восток и
лишается возможности своевременно предупредить Шеера, который с главными
силами спешит с юга, о подходе Джеллико. Линейные крейсера отыграли свою
роль в Ютландской битве. Ничего не подозревающий Шеер идёт навстречу самому
мощному флоту в мире.
|
Скорее всего, германские дредноуты
получили такие же повреждения, хотя сказать наверняка трудно — у немцев
не было принято указывать в донесениях их конкретный характер. Но ни один
из исполинов — ни германский, ни британский — из строя
не вышел и тонуть не собирался.
Первая непродолжительная схватка показала, что на дредноутах, в отличие
от линейных крейсеров, средства защиты сильнее средств нападения. Снаряды
могли покалечить корабль, и весьма серьезно, но для нанесения
ему смертельной раны потребовались
бы многие часы сосредоточенного огня. Единственное, что могло остановить
его,— попадание торпеды в особенно чувствительные места — рули, винты и,
возможно, в машинное отделение.
Тем временем на севере Битти шел
вперед на соединение с Джеллико и Гранд-флитом (карта,). Пока что действия
Битти, несмотря на его личную храбрость, высокой оценки не заслуживали.
Завидев противника, он очертя голову бросился в погоню, самонадеянно оставив
Джеллико за горизонтом, за что и поплатился — от немцев ему изрядно досталось.
Но теперь, завершив сложный маневр и идя на север курсом, параллельным
Хипперу, и держа его по правому борту, он отчасти компенсировал свои просчеты.
Несмотря на то что на многих кораблях были повреждены башни и надстройки,
они могли давать ход до 28 узлов. Битти отошел от Хиппера на дистанцию
предельной дальности своих 13-дюймовых орудий — вне досягаемости немецких
12-дюймовых пушек, дал залп и опять оторвался от германских линейных кораблей,
уйдя далеко вперед. Затем он сменил курс на восточный и интенсивным обстрелом
вынудил Хиппера также повернуть на восток. Битти поставил перед собой задачу
ввести противника в заблуждение, заставить изменить курс и тем самым лишить
возможности выполнить свою главную функцию — разведывательную. Битти рассчитывал,
что Хиппер не успеет предупредить Шеера о приближении Джеллико. И его замысел
удался: командование противника поначалу не поняло целей англичан. Позже,
когда хитрость была раскрыта, Хазе напишет о
«блистательном тактическом маневре
Битти» и восхитится «замечательными техническими навыками, продемонстрированными
англичанами».
Удалось провести и Шеера. Он понимал,
что в бою прока от его устаревших линкоров будет не много, но бросить их
на произвол судьбы не мог. Поэтому, чтобы они не отстали, ему пришлось
снизить скорость эскадры до 15 узлов. Быстроходные линейные крейсера ушли
на север и почти пропали из виду. «Ветер изменился с северо-западного на
юго-западный,— вспоминал Шеер,— ясная погода сменилась туманом. Дым стлался
по воде, горизонт на севере и востоке не просматривался, и наших разведчиков
было
почти не видно». Связи не было,
и даже радио не смогло помочь: и на «Лайоне», и на «Лютцове» вышли из строя
передатчики. Теперь ни Битти, ни Хиппер не могли держать своих главнокомандующих
в курсе дел.
Когда закончился «бег на юг», матросы
Хиппера ликовали — Бог покарал британцев: два их линейных крейсера были
потоплены, а теперь в бой вступят дредноуты флота Открытого моря. На «Дерффлингере»,
писал капитан третьего ранга фон Хазе, команда «была преисполнена чувством
законной гордости одержанной победы и горела желанием разбить все противостоящие
нам силы. Мы были готовы стяжать новые лавры».
Но англичане превосходили немцев
в дальнобойности, и тем стало не до лавров — стоял вопрос о жизни и смерти.
В 17.45, согласно боевому донесению
немцев, в «Лютцов» попало еще два снаряда. «Зейдлиц» получил несколько
попаданий и загорелся. У «Дерффлингера» пробило нос, и «он стал уходить
в воду с дифферентом на нос». На «Фон дёр Танне» были разбиты все орудия
главного калибра, но «его командир принял решение оставаться в строю, так
что противник, вынужденный учитывать его корабль, не смог усилить свой
огонь против трех
оставшихся». Далее в донесении говорится:
«Попав под сильный огонь неприятеля и будучи не в состоянии отвечать ему,
наши линейные корабли вскоре оказались в безвыходном положении». Битти
своим маневром гнал их все дальше и дальше на
восток.
К северу по курсу Шеера море было
пустым. Лишившись разведчиков, он шел вслепую, все еще не зная, что в дыму
и тумане, застилавшими горизонт, его поджидают главные силы адмирала сэра
Джона Джеллико и весь британский Гранд-флит.