За успешными полетами Эли с неослабным
вниманием следили в английском флоте, поскольку там с 1911 года аналогичные
эксперименты с гидроаэропланами и дирижаблями вела небольшая группа офицеров.
Не прошло и года после сенсационных взлетов и посадок Эли на «Пенсильванию»,
как лейтенант Ч. Сампсон 10 января 1912 года впервые в истории британского
флота поднялся в воздух с наклонного помоста, установленного на носу стоящего
на якоре линкора «Африка». Через несколько месяцев, 8 мая, Ч. Сампсон с
наблюдателем на борту дважды стартовал с аналога «Африки» линкора «Хайберниа»,
шедшего со скоростью 10— 12 узлов.
В следующем, 1913 году дорожка для запуска гидроаэропланов с тележек,
падающих после взлета в воду, была смонтирована и на крейсере «Гермес».
Но когда началась первая мировая
война, англичане следом за американцами поспешно сняли взлетно-посадочное
оборудование с линкоров и крейсеров, чтобы не стеснять их действий как
чисто артиллерийских кораблей. Однако положение Англии в войне оказалось
совершенно иным, и в отличие от американского флота Гранд Флит уже не смог
обойтись без корабельной авиации. Авианесущие корабли пришлось создавать
в ходе боевых действий.
Первым из них стал «Арк Ройал» —
угольщик, в ходе постройки приспособленный к приему и перевозке гидроаэропланов.
Самолеты, находящиеся в его трюмах, извлекались палубными кранами и ими
же опускались на воду. Вернувшиеся с задания гидроаэропланы так же поднимались
из воды и опускались обратно в трюмы. На всякий случай на «Арк Ройал» установили
и взлетную платформу.
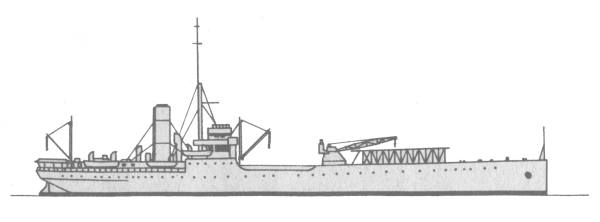 |
Гидроавиатранспорт «Арк Ройал»,
Англия, 1914 г.
Переоборудован из угольщика в гидроавиатранспорт.
Водоизмещение 7080 т, 1 винт, мощность паровой машины тройного расширения
3000 л. с., скорость хода 10,6 узла. Длина наибольшая 112 м, ширина 15,2;
среднее углубление 5,65 м. Вооружение: 4 76-мм орудия и 4 гидроаэроплана.
В 1934 году после нового переоборудования стал называться «Пегасус», участвовал
во второй мировой войне, продан Греции в 1947 году. |
У новоиспеченного авиатранспорта
сразу, же обнаружился ряд существенных недостатков. Даже при небольшом
волнении на море спуск и прием гидросамолетов становился крайне затруднительным.
Кроме того, тихоходный «Арк Ройал» не мог сопровождать Гранд Флит в его
походах. Это заставило английский флот с началом боевых действий поспешно
реквизировать и переделать в авиатранспорты ряд быстроходных пассажирских
судов. Среди них были известный трансатлантический лайнер «Кампания» и
шесть ла-маншских паромов, отличавшихся высокой скоростью: «Бен-май-Кри»,
«Мэнкомен», «Импресс», «Энгадайн»,
«Ривьера» и «Виндекс». В 1917 году этот список пополнился еще двумя авиатранспортами
— бывшими пассажирскими судами — «Наираной» и «Пегасусом».
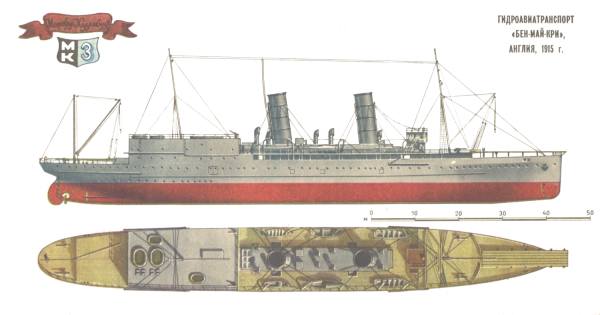 |
ГИДРОАВИАТРАНСПОРТ
«БЕН-МАЙ-КРИ», АНГЛИЯ, 1915 г.
Ла-маншский паром построен в Англии
в 1908 году, реквизирован и переделан в гидроавиатранспорт в 1915 году.
Водоизмещение 2651 т, 3 винта, мощность паровых турбин примерно 18000 л.
с., скорость хода 24 узла. Длина наибольшая 118 м, ширина 14,4, среднее
углубление 4,6 м. Вооружение: 4 12-фунтовые пушки, 2 3-фунтовые зенитки,
4 гидроаэроплана.
«Бен-май-Кри» активно действовал
на Средиземном море во время Дарданелльской операции. Именно с него поднялись
в воздух торпедоносцы, проведшие первую в истории воздушную торпедную атаку
в боевых условиях. Потоплен огнем турецких береговых батарей в 1917 году. |
За первые три года войны небольшой
отряд авианесущих кораблей участвовал во многих операциях британского флота
и накопил определенный боевой опыт. 17 февраля 1915 года «Арк Ройал» прибыл
на Средиземное море к острову Тенедос (ныне Боэджаада) для участия в Дарданелльской
операции.
Гидроаэропланы этого авиатранспорта
должны были обнаружить турецкие батареи и корректировать артиллерийский
корабельный огонь. Практика подтвердила опасения специалистов. Для подъема
и спуска самолетов обязательным было наличие абсолютно тихой погоды, а
качество и энерговооруженность аэропланов не позволяли им подниматься выше
600 м. Тем не менее единственный разведчик, сумевший взлететь с «Арк Ройал»,
доставил ценнейшую информацию о системе обороны Булаирских фортов в устье
Дарданелл. А пять месяцев спустя впервые добились боевого успеха самолеты
совершенно нового класса — торпедоносцы, базирующиеся на «Бен-май-Кри»...
Разработка этих машин началась в
1911 году, когда английское адмиралтейство дало задание сконструировать
авиационную 356-мм торпеду весом 360 кг и поручило фирме Т. Сопвича спроектировать
под нее гидросамолет-торпедоносец. Через два года машина была испытана
лейтенантом А. Лонгмором, а еще через год на вооружение был принят и более
мощный торпедоносец «Шорт», способный нести 456-мм торпеду весом 454 кг.
Именно эти гидроаэропланы и находились на борту «Бен-май-Кри», отправившегося
в мае 1915 года из Англии в Саросский залив на Средиземном море. 12 августа
майор К. Эдмондс совершил первую в истории торпедную атаку с самолета,
базировавшегося на корабле: с дистанции 300 м он напал на турецкий транспорт,
который выбросился на мель после атаки английской подводной лодки. Пятью
днями позже успеха добились оба торпедоносца с «Бен-май-Кри». На рассвете
17 августа К. Эдмондс в Мраморном море уничтожил торпедой войсковой транспорт,
а лейтенант Дж. Дакре атаковал турецкий буксир. Во время этой атаки у гидросамолета
Дакре начались перебои в двигателе, и лейтенант был вынужден посадить машину
на воду. Но мотор продолжал работать. Поднимая, словно глиссер, пенные
буруны, гидросамолет настиг противника и поразил его торпедой. Избавившись
от смертоносного груза, облегченная машина взлетела и вернулась на свою
плавучую базу.
Наиболее крупным успехом английской
авиации в Ютландском бою считаются действия авиатранспорта «Энгадайн»,
прикомандированного к эскадре линейных крейсеров вице-адмирала
Битти. 31 мая 1916 года Битти, сам того не ведая, вел свою эскадру навстречу
немецким кораблям. В 11.44 вице-адмирал приказал выслать на разведку самолет.
Низкая облачность и очень плохая видимость позволили спустить с «Энгадайна»
только один «Шорт» с пилотом лейтенантом Ф. Рутлендом и наблюдателем Дж.
Тревином на борту. Экипаж гидросамолета вскоре был в полной мере вознагражден
за свое летное искусство и мужество, обнаружив прямо по курсу английской
эскадры идущие ей навстречу три немецких крейсера и десять эсминцев.
Дж. Тревин трижды передавал в эфир
сведения о координатах, курсе и скорости немецких кораблей, но... они так
и не были приняты на флагманском корабле Битти. Англичан спасли осторожность
и нерешительность немецкого адмирала. И хотя информация летчиков не попала
на английский флагман, сам факт обнаружения противника с самолета намного
раньше, чем с крейсера, можно было считать установленным... Вот почему
после Ютландского сражения англичане начали восстанавливать то, от чего
они не так давно столь поспешно отказались, — оснащать самолетами артиллерийские
корабли.
Линейные корабли и линейные крейсера
получили по два самолета: одну двухместную машину на платформе носовой
башни и одноместную на платформе кормовой башни. Легкие крейсера несли
по одному самолету. Успешные взлеты с таких кораблей состоялись в 1917
году: в июне впервые взлетел самолет с легкого крейсера «Ярмут», в октябре
с линейного крейсера «Рипалс» стартовал одноместный гидроаэроплан, а в
апреле 1918 года с линейного крейсера «Австралия» поднялась в воздух двухместная
машина.
Усиление кораблей самолетами послужило
ответом на объявленную Германией 1 февраля 1917 года неограниченную подводную
войну. С этого момента противолодочная оборона становилась для Англии вопросом
жизни и смерти. Задачи, возлагаемые на английскую морскую авиацию, резко
возросли. Если в сентябре 1914 года она только охраняла прибрежные воды
от подводных лодок, то с 1917 года на нее возложили обследование огромных
водных пространств, охрану узкостей и подходов к базам, охрану флота на
переходах морем, бомбардировку вражеских баз и уничтожение обнаруженных
субмарин противника. Все эти задачи воздушные силы должны были выполнять
с помощью самолетов, дирижаблей и привязных аэростатов. Непрерывно нарастая,
их количество к середине 1918 года составило: самолетов — 1070, дирижаблей
— 39, аэростатов — 137.
Значительная часть воздушного парка
базировалась на береговых станциях, но в выполнении основной задачи — установлении
путей следования немецких подлодок в открытом море — береговая авиация
была бессильна. Вот почему с 1917 года крупные корабли начали оборудоваться
для взлета и посадки самолетов. 56 кораблей были оснащены змейковыми привязными
аэростатами, из них 30 предназначалось для сторожевой службы и 26 для действий
на морских коммуникациях. К концу войны корабли Гранд Флита, выходящие
в море, несли на себе около 50 самолетов и 30 аэростатов.
Попавшие в плен немецкие подводники
невысоко оценивали противолодочную деятельность английских воздушных сил.
Такой вывод как будто подтверждает и небольшое число уничтоженных авиацией
подводных лодок — всего 5 единиц. Но не это было главным. Воздушное патрулирование
значительно снижало боевую эффективность немецких субмарин, сковывая и
затрудняя их действия. Это подтверждается, в частности, такими цифрами:
на протяжении 1917 года воздушные силы обнаружили 175 немецких подлодок,
из которых было затем атаковано 85. В 1918 году из 192 обнаруженных лодок
воздушные силы атаковали 130.
Накопленный западноевропейскими союзниками
Англии опыт боевого применения морской авиации не шел ни в какое сравнение
с британским. Так, в период подготовки Дарданелльской операции в Порт-Саиде
и на острове Мудрос было решено создать базы гидроавиации. В этом сражении
наряду с английскими авиатранспортами принимал участие и единственный в
то время французский авиатранспорт «Ла Фудр».
История этого многострадального
корабля может служить печальной иллюстрацией тех колебаний, которые претерпевала
военно-морская политика Франции в конце XIX — начале XX века. «Ла Фудр»,
спроектированный во времена господства так называемой «молодой школы» адмирала
Оба, предназначался для несения торпедных катеров. При водоизмещении 14
т эти катера вооружались одной 380-мм торпедой и приводились в движение
паровой машиной. Мыслилось, что, разогрев свои котлы паром от силовой установки
корабля-носителя, эти суденышки соскальзывали бы по рольгангам на воду
и неслись на противника уже своим ходом. Опыт показал, что даже малейшее
волнение является препятствием для спуска катеров, и поэтому в 1907 году
«Ла Фудр» был переделан в плавучую мастерскую. Через три года корабль переоборудовали
в минный заградитель на 80 мин, и с этого момента «Ла Фудр» стал объектом
всевозможных новаций, которыми увлекалось руководство французского флота.
В 1911 году его переделали в плавучую
авиабазу, соорудив ангар и кран между задней трубой и мачтой. Двумя годами
позже он уже числится гидрокрейсером с 4—8 гидроаэропланами на борту, и
как таковой участвует в первых операциях французского флота на Средиземном
море. Но в 1916 году корабль снова переоборудуют — сначала в судно для
снабжения подводных лодок, а затем в конвойный корабль. Последние переделки
скорее всего связаны с тем, что в конце 1915 года в строй французского
флота вступил «Кампинас» — более крупный и совершенный авиатранспорт с
6—10 гидросамолетами на борту. В прошлом пассажирский лайнер (3319 т,
11,5 узла), этот корабль с января 1916 года участвовал во многих боевых
операциях в восточной части Средиземного моря.
 |
Гидроавиатранспорт
«Кампинас», Франция, 1915 г.
Лайнер, спущенный на воду в 1896
году, был переоборудован в гидроавиатранспорт в 1915 году. Водоизмещение
3319 т. мощность паровой машины тройного расширения 1460 л.
с., скорость хода 11,5 узла. Длина наибольшая 102,4 м. ширина
12,85, среднее углубление 7,08 м. Вооружение: 6—10 гидроаэропланов. Вплоть
до окончания первой мировой войны широко использовался в операциях на Средиземном
море. |
В 1916 году французы превратили в
авиатранспорты еще два парома — «Норд» и «Па-де-Кале» (1541 т, 21 узел),
которые затем тесно взаимодействовали с английскими противолодочными силами.
В Ла-Манше к ним прибавился бывший пароход «Руан» (1656 т, 24 узла), которому
предстояло охранять конвои между Италией и Грецией. В этих операциях «Руан»
действовал совместно с двумя итальянскими авиатранспортами. Один из них
— крейсер «Эльба» и второй — пароход «Европа». Последний при водоизмещении
6400—8805 т развивал скорость 12,2 узла и нес на борту 8 гидроаэропланов
и две 76-мм зенитки.
Малое внимание итальянцев к созданию
авианесущих кораблей нетрудно объяснить: узкое и очень тихое Адриатическое
море позволяло главным соперникам — Италии и Австро-Венгрии — рассчитывать
на морскую авиацию берегового базирования. Лишь вступив в войну на стороне
Антанты в 1915 году, итальянский флот ощутил необходимость в авиатранспортах
для воздушного прикрытия морских коммуникаций. Морская же авиация Австро-Венгрии
до самого конца войны так и осталась береговой и никакого вклада в развитие
авианесущих кораблей не внесла.
Не считала нужным особенно заботиться
о создании авиатранспортов и Германия, уповая на свои дирижабли с огромным,
по тогдашним понятиям, радиусом действия. Но тем не менее там была сделана
попытка переделки в авиатранспорты двух поспешно зафрахтованных пароходов
— «Ансвальд» и «Санта
Элена». На носу и на корме этих судов были построены деревянные ангары
со стальными каркасами, которые вмещали по одному самому крупному из тогдашних
немецких гидроаэропланов. На средних палубах разместили мастерские для
ремонта самолетов, а также запасы угля, воды, смазочных масел, асбеста
и других материалов для снабжения миноносцев, действующих в открытом море.
В середине августа 1914 года оба
корабля вступили в состав флота и действовали у побережья Северного моря.
Однако из-за парусности эти увенчанные огромными ангарами высокобортные
пароходы становились практически неуправляемыми в ветреную погоду. Поэтому
их боевое применение сводилось в основном к позиционному использованию
в качестве плавучих баз для гидросамолетов и миноносцев. После организации
береговых аэродромов на островах Северного моря оба авиатранспорта перевели
в Балтийское море, где энергичные действия русского флота и морской авиации
доставляли немцам немало хлопот. К тому времени ангары были расширены —
теперь «Ансвальд» брал на борт три самолета, а «Санта Элена» — четыре.
Усилена была и противоминная защита этих кораблей, на них также установили
по две 88-мм пушки.
Позднее в число авиатранспортов
немецкого флота на Балтике были включены «Глиндер» (2425 т, 9 узлов), переделанный
из английского призового парохода, и «Освальд» (5401 т, 10 узлов). Но из-за
своей тихоходности эти корабли могли использоваться только как плавучие
базы, выдвигаемые далеко в море, но неспособные действовать в разведывательной
службе флота. Вот почему в начале 1918 года было решено переоборудовать
в быстроходный авиатранспорт легкий крейсер «Штутгарт». На его палубе установили
ангары для двух гидроаэропланов и устройства для спуска и подъема самолетов,
и в мае 1918 года он уже вступил в строй.
Судя по последующему срочному требованию
переделать в авиатранспорты старый броненосный крейсер «Роон» и несколько
торговых судов, опыт использования «Штутгарта» оказался удачным. Но времени
на эти работы у Германии уже не оставалось...
Подводя итоги боевого применения
на море авиации в ходе первой мировой войны, можно заключить, что русские
первенствовали в бомбардировке с воздуха морских и береговых целей, англичане
— в воздушном торпедометании, немцы — в минировании с воздуха. Вклад американцев
в боевой опыт был минимальным, однако за ними остался эксперимент Ю. Эли
— взлет и посадка на палубу корабля. Но развить возможности, заложенные
в этой идее, в годы первой мировой войны довелось лишь англичанам.
Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры.
Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ
Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза
генерал-полковника авиации А. А. Мироненко,
Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина

